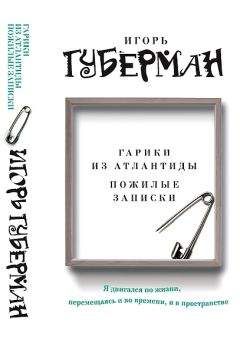Игорь Губерман - Камерные гарики. Прогулки вокруг барака (сборник)
На сайте mybooks.club вы можете бесплатно читать книги онлайн без регистрации, включая Игорь Губерман - Камерные гарики. Прогулки вокруг барака (сборник). Жанр: Современная проза издательство -,. Доступна полная версия книги с кратким содержанием для предварительного ознакомления, аннотацией (предисловием), рецензиями от других читателей и их экспертным мнением.
Кроме того, на сайте mybooks.club вы найдете множество новинок, которые стоит прочитать.

Игорь Губерман - Камерные гарики. Прогулки вокруг барака (сборник) краткое содержание
Камерные гарики. Прогулки вокруг барака (сборник) читать онлайн бесплатно
В лагере я стихов не писал, там я писал прозу.
Сибирский дневник
Часть первая
Судьбы моей причудливое устье
внезапно пролегло через тюрьму
в глухое, как Герасим, захолустье,
где я благополучен, как Муму.
Все это кончилось, ушло,
исчезло, кануло и сплыло,
а было так нехорошо,
что хорошо, что это было.
Живя одиноко, как мудрости зуб,
вкушаю покоя отраду:
лавровый венок я отправил на суп,
терновый – расплел на ограду.
Приемлю тяготы скитаний,
ничуть не плачась и не ноя,
но рад, что в чашу испытаний
теперь могу подлить спиртное.
Все смоет дождь. Огонь очистит.
Покроет снег. Сметут ветра.
И сотни тысяч новых истин
на месте умерших вчера
взойдут надменно.
С тех пор как я к земле приник,
я не чешу перстом в затылке,
я из дерьма сложил парник,
чтоб огурец иметь к бутылке.
Живу, напевая чуть слышно,
беспечен, как зяблик на ветке,
расшиты богато и пышно
мои рукава от жилетки.
Навряд ли кто помочь друг другу может,
мы так разобщены на самом деле,
что даже те, кто делит с нами ложе,
совсем не часто жизни с нами делят.
Я – ссыльный, пария, плебей,
изгой, затравлен и опаслив,
и не пойму я, хоть убей,
какого хера я так счастлив.
Я странствовал, гостил в тюрьме, любил,
пил воздух, как вино,
и пил вино, как воздух,
познал азарт и риск, богат недолго был
и вновь бездонно пуст. Как небо в звездах.
Я клянусь всей горечью и сладостью
бытия прекрасного и сложного,
что всегда с готовностью и радостью
отзовусь на голос невозможного.
Не соблазняясь жирным кусом,
любым распахнут заблуждениям,
в несчастья дни я жил со вкусом,
а в дни покоя – с наслаждением.
Что ни день – обнажившись по пояс,
я тружусь в огороде жестоко,
а жена, за мой дух беспокоясь,
мне читает из раннего Блока.
Я снизил бытие свое до быта,
я весь теперь в земной моей судьбе,
и прошлое настолько мной забыто,
что крылья раздражают при ходьбе.
Я, по счастью, родился таким,
и устройство мое – дефективно:
мне забавно, где страшно другим,
и смешно даже то, что противно.
Мне очень крепко повезло:
в любой тюрьме, куда ни деньте,
мое пустое ремесло
нужды не знает в инструменте.
Мне кажется, она уже близка —
расплата для застрявших здесь, как дома:
всех мучает неясности тоска,
а ясность не бывает без погрома.
Когда в душе тревога, даже стены,
в которых ты укрылся осторожно,
становятся пластинами антенны,
сигналящей, что все кругом тревожно.
Настолько я из разных лоскутков
пошит нехорошо и окаянно,
что несколько душевных закутков
другим противоречат постоянно.
Откуда ты, вечерняя тоска?
Совсем еще не так уже я стар.
Но в скрежете гармонию искал
и сам себя с собой мирить устал.
Я вернулся другим – это знает жена,
что-то прочно во мне заторможено,
часть былого меня тем огнем сожжена,
часть другая – тем льдом обморожена.
Порядка мы жаждем! Как формы для теста.
И скоро мясной мускулистый мессия
для миссии этой заступит на место,
и снова, как встарь, присмиреет Россия.
Меня растащат на цитаты
без никакой малейшей ссылки,
поскольку автор, жид пархатый,
давно забыт в сибирской ссылке.
Когда уходил я, приятель по нарам,
угрюмый охотник, таежный медведь:
– Послушай, – сказал мне, – сидел ты недаром,
не так одиноко мне было сидеть.
Всех, кто встретился мне на этапах
(были всякие – чаще с надломом),
отличал специфический запах —
дух тюрьмы, становящейся домом.
На солнце снег лучится голубой,
и странно растревожен сонный разум,
я словно виноват перед тобой,
я словно, красота, тебе обязан.
Кочевник я. Про все, что вижу,
незамедлительно пою,
и даже говный прах не ниже
высоких прав на песнь мою.
Когда я буду немощным и хворым,
то смерть мою хотел бы встретить я
с друзьями – за вином и разговором
о бренности мирского бытия.
Мы бы не писали и не пели,
все бы только ржало и мычало,
если бы Россия с колыбели
будущие песни различала.
Случайно мне вдруг попадается слово,
другими внезапными вдруг обрастает,
оно – только семя, кристаллик, основа,
а стих загустеет – оно в нем растает.
Ночью мне приснился стук в окошко.
Быстрым был короткий мой прыжок.
Это банку лапой сбила кошка.
Слава Богу – рукопись не сжег.
Мне не жаль моих азартных дней,
ибо жизнь полна противоречий:
чем она разумней, тем бедней,
чем она опасней, тем беспечней.
Есть время жечь огонь и сталь ковать,
есть время пить вино и мять кровать;
есть время (не ума толчок, а сердца)
поры перекурить и осмотреться.
По здравому, трезвому, злому суждению
Творец навсегда завещал молчаливо
бессилие – мудрости, страсть – заблуждению
и вечную смену прилива-отлива.
Мир так непостоянен, сложен так
и столько лицедействует обычно,
что может лишь подлец или дурак
о чем-нибудь судить категорично.
О девке, встреченной однажды,
подумал я со счастьем жажды.
Спадут ветра и холода —
опять подумаю тогда.
Что мне в раю гулянье с арфой
и в сонме праведников членство,
когда сегодня с юной Марфой
вкушу я райское блаженство?
Ко мне порой заходит собеседник,
неся своих забот нехитрый ворох,
бутылка – переводчик и посредник
в таких разноязыких разговорах.
Брожу вдоль древнего тумана,
откуда ветвь людская вышла;
в нас есть и Бог, и обезьяна;
в коктейле этом – тайны вишня.
Может быть, разумней воздержаться,
мысленно затрагивая небо?
Бог на нас не может обижаться,
ибо Он тогда бы Богом не был.
От бессилия и бесправия,
от изжоги душевной путаницы
со штанов моего благонравия
постепенно слетают пуговицы.
Как лютой крепости пример,
моей душою озабочен,
мне друг прислал моржовый хер,
чтоб я был тверд и столь же прочен.
Мы чужие здесь. Нас лишь терпят.
А мерзавец, подлец, дурак
и слепые, что вертят вертел, —
плоть от плоти свои. Как рак.
Нынче это глупость или ложь —
верить в просвещение, по-моему,
ибо что в помои ни вольешь —
теми же становится помоями.
Предаваясь пиршественным возгласам,
на каком-то начальном стакане
вдруг посмотришь, кем стали мы с возрастом,
и слова застревают в гортани.
Завари позабористей чай,
и давай себе душу погреем;
это годы приносят печаль
или мы от печали стареем?
Когда сорвет беда нам дверь с петель
и новое завертит нас ненастье,
то мусор мелочей сметет метель,
а целое запомнится как счастье.
Отъявленный, заядлый и отпетый,
без компаса, руля и якорей
прожил я жизнь, а памятником ей
останется дымок от сигареты.
Один я. Задернуты шторы.
А рядом, в немой укоризне,
бесплотный тот образ, который
хотел я сыграть в этой жизни.
Даже в тесных объятьях земли
буду я улыбаться, что где-то
бесконвойные шутки мои
каплют искорки вольного света.
Вечно и везде – за справедливость
длится непрерывное сражение;
в том, что ничего не изменилось, —
главное, быть может, достижение.
За периодом хмеля и пафоса,
после взрыва восторга и резвости
неминуема долгая пауза —
время скепсиса, горечи, трезвости.
Здесь – реликвии. Это святыни.
Посмотрите, почтенные гости.
Гости смотрят глазами пустыми,
видят тряпки, обломки и кости.
Огонь и случай разбазарили
все, чем надменно я владел,
зато в коротком этом зареве
я лица близких разглядел.
Спасибо организму, корпус верный
устойчив оказался на плаву,
но все-таки я стал настолько нервный,
что вряд ли свою смерть переживу.
Мы многих в нашей жизни убиваем —
незримо, мимоходом, деловито;
с родителей мы только начинаем,
казня их простодушно и открыто.
Всему ища вину вовне,
я злился так, что лез из кожи,
а что вина всегда во мне,
я догадался много позже.
Порой оглянешься в испуге,
бег суеты притормозя:
где ваши талии, подруги?
где наша пламенность, друзья?
Сегодня дышат легче всех
лишь волк да таракан,
а нам остались книги, смех,
терпенье и стакан.
Плоды тысячелетнего витийства
создали и залог, и перспективы
того, что в оправдание убийства
всегда найдутся веские мотивы.
Хоть я живу невозмутимо,
но от проглоченных обид
неясно где, но ощутимо
живот души моей болит.
Грусть подави и судьбу не гневи
глупой тоской пустяковой;
раны и шрамы от прежней любви —
лучшая почва для новой.
Целый день читаю я сегодня,
куча дел забыта и заброшена,
в нашей уцененной преисподней
райское блаженство очень дешево.
Потоком талых вод омыв могилы,
весна еще азартней потекла,
впитавши нерастраченные силы
погибших до пришествия тепла.
Когда по голым душам свищет хлыст
обмана, унижений и растления,
то жизнь сама в себе имеет смысл:
бессмысленного, но сопротивления.
Этот образ – чужой, но прокрался не зря
в заготовки моих заповедных стихов,
ибо в лагере впрямь себя чувствовал я,
как живая лиса в магазине мехов.
Я уже неоднократно замечал
(и не только под влиянием напитков),
что свою по жизни прибыль получал
как отчетливое следствие убытков.
Душа не в теле обитает,
и это скоро обнаружат;
она вокруг него витает
и с ним то ссорится, то дружит.
Листая лагерей грядущий атлас,
смотря о нас кино грядущих лет,
пришедшие вослед пускай простят нас,
поскольку, что поймут – надежды нет.
Мы сами созидаем и творим
и счастье, и нелепость, и засранство,
за что потом судьбу благодарим
и с жалобами тычемся в пространство.
Когда, отказаться не вправе,
мы тонем в друзьях и приятелях,
я горестно думаю: Авель
задушен был в братских объятиях.
За годом год я освещу
свой быт со всех сторон,
и только жаль, что пропущу
толкучку похорон.
Все говорят, что в это лето
продукты в лавках вновь появятся,
но так никто не верит в это,
что даже в лете сомневаются.
И мучит блудных сыновей
их исподлобья взгляд обратный:
трава могил, дома друзей
и общий фон, уже невнятный.
Из тупика в тупик мечась,
глядишь – и стали стариками;
светла в минувшем только часть —
дорога между тупиками.
Бог молчит совсем не из коварства,
просто у него своя забота:
имя его треплется так часто,
что его замучила икота.
Летит по жизни оголтело,
бредет по грязи не спеша
мое сентябрьское тело,
моя апрельская душа.
Чем пошлей, глупей и примитивней
фильмы о красивости страданий,
тем я плачу гуще и активней,
и безмерно счастлив от рыданий.
В чистилище – дымно, и вобла, и пена;
чистилище – вроде пивной;
душа, закурив, исцеляет степенно
похмелье от жизни земной.
Тоска и лень пришли опять
и курят мой табак уныло;
когда б я мог себя понять,
то и простить бы легче было.
Жизни плотоядное соцветие,
быта повседневная рутина,
склеив и грехи, и добродетели,
держат нас, как муху – паутина.
Земля весной сыра и сиротлива,
но вскоре, чуть закутавшись в туман,
открыто и безгрешно-похотливо
томится в ожидании семян.
Ничтожно мелкое роение
надежд, мыслишек, опасений —
меняет наше настроение
сильней вселенских потрясений.
Не знаю, кто диктует жизнь мою —
крылат он или мелкий бес хромой,
но почерк непрестанно узнаю —
корявый и беспутный, лично мой.
Сытным хлебом и зрелищем дивным
недовольна широкая масса.
Ибо живы не хлебом единым!
А хотим еще водки и мяса.
Навряд ли наука найдет это место,
и чудом останется чудо.
Откуда берутся стихи – неизвестно.
А искры из камня – откуда?
Душа лишается невинности
гораздо ранее, чем тело;
во всех оплошностях наивности —
она сама того хотела.
Прихоти, чудачества, капризы —
это честь ума не умаляет,
это для самой себя сюрпризы
грустная душа изготовляет.
Я ведал много наслаждений,
высоких столь же, сколь и низких,
и сладострастье сновидений —
не из последних в этом списке.
По капелькам, кусочкам и крупицам
весь век мы жадно ловим до кончины
осколки той блаженности, что снится,
когда во сне ликуешь без причины.
Средь шумной жизненной пустыни,
где страсть, и гонор, и борение,
во мне достаточно гордыни,
чтобы выдерживать смирение.
А жизнь летит, и жить охота,
и слепо мечутся сердца
меж оптимизмом идиота
и пессимизмом мудреца.
Раскрылась доселе закрытая дверь,
напиток познания сладок,
небесная высь – не девица теперь,
и больше в ней стало загадок.
Почти старик, я робко собираюсь
кому-нибудь печаль открыть свою,
что взрослым я всего лишь притворяюсь
и очень от притворства устаю.
Друзья мои живость утратили,
угрюмыми ходят и лысыми,
хоть климат наш так замечателен,
что мыши становятся крысами.
Серость побеждает незаметно,
ибо до поры ютится к стенкам,
а при этом гибко разноцветна
и многообразна по оттенкам.
Что ни год, без ошибок и промаха
в точный срок зацветает черемуха,
и царит оживленье в природе,
и друзья невозвратно уходят.
На свете есть таинственная власть,
ее дела кромешны и сугубы,
и в мистику никак нельзя не впасть,
когда болят искусственные зубы.
Духом прям и ликом симпатичен,
очень я властям своим не нравлюсь,
ибо от горбатого отличен
тем, что и в могиле не исправлюсь.
Нет, будни мои вовсе не унылы,
и жизнь моя, терпимая вполне,
причудлива, как сон слепой кобылы
о солнце, о траве, о табуне.
Сладок сахар, и соль солона,
пью, как пил, и живу не напрасно,
есть идеи, желанна жена,
и безумное время прекрасно.
Когда в душе царит разруха —
не огорчайся, выжди срок:
бывает время линьки духа,
его мужания залог.
Впечатывая в жизнь свои следы,
не жалуйся, что слишком это сложно;
не будь сопротивления среды —
движенье б оказалось невозможно.
За веком век уходит в никуда,
а глупости и бреду нет конца;
боюсь, что наша главная беда —
иллюзия разумности Творца.
Вчера я жизнь свою перебирал,
стихов лаская ветхие листки,
зола и стружки – мой материал,
а петь мечтал – росу и лепестки.
К приятелю, как ангел-утешитель,
иду залить огонь его тоски,
а в сумке у меня – огнетушитель
и курицы вчерашние куски.
Бездарный в акте обладания
так мучим жаждой наслаждений,
что утолят его страдания
лишь факты новых овладений.
Огонь печи, покой и тишина.
Грядущее и зыбко, и тревожно.
А жизнь, хотя надежд и лишена,
однако же совсем не безнадежна.
Я часто вижу жизнь как сцену,
где в одиночку и гуртом
всю жизнь мы складываем стену,
к которой ставят нас потом.
Блаженны, кто жизнь принимает всерьез,
надеются, верят, стремятся,
куда-то спешат и в жару, и в мороз,
и сны им свирепые снятся.
С возрастом отчетливы и странны
мысли о сложившейся судьбе:
все ловушки, ямы и капканы —
только сам устраивал себе.
Зря ты, Циля, нос повесила:
если в Хайфу нет такси,
нам опять живется весело
и вольготно на Руси.
Когда я оглохну, когда слепота
запрет меня в комнатный ящик,
на ощупь тогда бытия лепота
мне явится в пальцах дрожащих.
Ты со стихов иметь барыш,
душа корыстная, хотела?
И он явился: ты паришь,
а снег в Сибири топчет тело.
Слаб и грешен, я такой,
утешаюсь каламбуром,
нету мысли под рукой —
не гнушаюсь калом бурым.
Моим стихам придет черед,
когда зима узду ослабит,
их переписчик переврет
и декламатор испохабит.
Я тогу – на комбинезон
сменил, как некогда Овидий
(он также Публий и Назон),
что сослан был и жил в обиде,
весь день плюя за горизонт,
и умер, съев несвежих мидий.
То ли такова их душ игра,
то ли в этом видя к цели средство,
очень любят пыток мастера
с жертвой похотливое кокетство.
Приятно думать мне в Сибири,
что жребий мой совсем не нов,
что я на вечном русском пире
меж лучших – съеденных – сынов.
Мне, судя по всему, иным не стать,
меня тюрьма ничуть не изменила,
люблю свою судьбу пощекотать,
и, кажется, ей тоже это мило.
Боюсь, что жар и горечь судеб наших
покажется грядущим поколеньям
разнежившейся рыхлой простоквашей,
политой переслащенным вареньем.
И мысли, и дыхание, и тело,
и дух, в котором живости не стало, —
настолько все во мне отяжелело,
что только не хватает пьедестала.
В любви к России – стержень и основа
души, сносящей боль и унижение;
помимо притяжения земного
тюремное бывает притяжение.
За года, что ничуть я не числю утратой,
за кромешного рабства глухие года
столько русской земли накопал я лопатой,
что частицу души в ней зарыл навсегда.
Есть жуткий сон: чудовище безлико,
но всюду шарят щупальца его,
а ты не слышишь собственного крика,
и близкие не видят ничего.
Сибирь. Ночная сигарета.
О стекла снег шуршит сухой,
и нет стыда, и нет секрета
в тоске невольничьей глухой.
Я пил нектар со всех растений,
что на пути своем встречал;
гербарий их засохших теней
теперь листаю по ночам.
Как дорожная мысль о ночлеге,
как виденье пустыни – вода,
нас тревожит мечта о побеге
и тоска от незнанья – куда.
Был ребенок – пеленки мочил я, как мог;
повзрослев, подмочил репутацию;
а года протекли, и мой порох намок —
плачу, глядя на юную грацию.
Как ты поешь! Как ты колышешь стан!
Как облик мне твой нравится фартовый!
И держишь микрофон ты, как банан,
уже к употреблению готовый.
Словить иностранца мечтает невеста,
надеясь побыть в заграничном кино
посредством заветного тайного места,
которое будет в Европу окно.
Мы всю жизнь в борьбе и укоризне
мечемся, ища благую весть;
хоть и мало надо нам от жизни,
но всегда чуть более, чем есть.
Где ты нынче? Жива? Умерла?
Ты была весела и добра.
И ничуть не ленилась для ближнего
из бельишка выпархивать нижнего.
В той мутной мерзости падения,
что я недавно испытал,
был острый привкус наслаждения,
как будто падая – взлетал.
Конечно, есть тоска собачья
в угрюмой тине наших дней,
но если б жизнь текла иначе,
своя тоска была бы в ней.
С людьми вполне живыми я живу,
но все, что в них духовно и подвижно,
похоже на случайную траву,
ломящуюся к свету сквозь булыжник.
Был юн – искал кого-нибудь,
чтоб душу отвести,
и часто я ходил взгрустнуть
к знакомым травести.
Теперь часы тоски пусты,
чисты и молчаливы,
а травести – давно толсты,
моральны и сварливы.
Чтобы прожить их снова так же,
я много дней вернуть хотел бы;
и те, что память сердца скажет,
и те, что помнит память тела.
Легко мне пить вино изгнания
среди сибирской голытьбы
от сладкой горечи сознания
своей свободы и судьбы.
Смеются гости весело и дружно,
побасенки щекочут их до слез;
а мне сейчас застолье это нужно,
как птице-воробью – туберкулез.
Назад обращенными взорами,
смотря через годы и двери,
я вижу победы, которыми
обрел только стыд и потери.
Взамен слепой хмельной горячности,
взамен решительности дерзкой
приходит горечь трезвой зрячести
и рассудительности мерзкой.
Дьявол – не убогий совратитель,
стал он искушенней за века,
нынче гуманист он и мыслитель,
речь его светла и высока.
Снова жаждали забвенья
все, кому любви отраву
подносил гуляка Беня,
кличку Поц нося по праву.
К тебе, могильная трава,
приходят молча помолиться
к иным – законная вдова,
к иным – случайная вдовица.
Расти утешной.
Про все устами либерала
судя придирчиво и строго,
имел он ум, каких немало,
зато был трус, каких немного.
Чем русская история страшней,
тем шутки ее циников смешней.
Весь выходной в тени сарая
мы пьем и слушаем друг друга,
но глух дурак, с утра играя
в окне напротив бахи фуга.
Чем глубже вязнем мы в болото,
тем и готовней год за годом
для все равно куда полета
с любым заведомым исходом.
Не лейте на творог сметану,
оставьте заботы о мясе
и рыбу не жарьте Натану,
который тоскует по Хасе.
Нам свойственно наследственное свойство,
в котором – и судьбы обоснование:
накопленный веками дух изгойства
пронизывает плоть существования.
От жалоб, упреков и шума,
от вечной слезливой обиды —
нисколько не тянет Наума
уйти от хозяйственной Иды.
Живя среди рабочей братии,
ловлю себя на ощущении,
как душен климат демократии
в ее буквальном воплощении.
Червяк, по мнению улиток,
презренно суетен и прыток.
Его голове доставало ума,
чтоб мысли роились в ней роем,
но столько она извергала дерьма,
что стала болеть геморроем.
Нелепо ждать слепой удачи,
но сладко жить мечтой незрячей,
что случай – фокусник бродячий,
обид зачеркивая счет,
придет и жизнь переиначит,
и чудо в ней проистечет.
Пожизненно вкушать нам суждено
духовного питания диету,
хоть очень подозрительно оно
по запаху, по вкусу и по цвету.
Смешным, нелепым, бестолковым,
случайно, вскользь и ни к чему,
кому-то в жизнь явлюсь я словом,
и станет легче вдруг ему.
А странно, что в душе еще доныне
очерчивать никто пока не стал
подземные течения, пустыни,
болота и обвальные места.
Неправда, что смотрю на них порочно, —
без похоти смотрю и не блудливо,
меня волнует вид их так же точно,
как пахаря – невспаханная нива.
Вальяжности у сверстников моих,
солидности – в кошмарном изобилии,
меж этих генералов пожилых
живу как рядовой от инфантилии.
Всю жизнь я тайно клоунов любил,
и сам не стал шутом едва-едва,
и помню, как приятеля побил
за мерзкие о клоунах слова.
Теперь он физик.
С жаждой жить рожденные однажды,
мечемся по жизни мы усердно,
годы умаляют ярость жажды,
наш уход готовя милосердно.
Как бедняга глупо покалечен,
видно даже малому ребенку:
лучше, чтоб орлы клевали печень,
чем ослы проели селезенку.
Как поле жизни перейти,
свое мы мнение имеем:
тот змей, что Еву совратил,
он тоже был зеленым змеем.
Второпях, впопыхах, ненароком,
всюду всех заставая врасплох,
происходит у века под боком
пересменка российских эпох.
Вянут, вянут друзья и наперсницы,
и какой-нибудь бывшей вострушке
я скажу, отдышавшись от лестницы:
все, подружка, оставим ватрушки.
Я стал бы свежим, как пятак,
морщины вытеснив со лба,
когда бы в кровь не въелась так
опаска беглого раба.
Нас догола сперва раздели
и дали срок поголодать,
а после мы слегка поели
и вновь оделись. Благодать!
С годами заметней, слышней и упорней,
питаясь по древним духовным колодцам,
пускают побеги глубокие корни
корявой российской вражды к инородцам.
В зеркало смотрясь, я не грущу,
гриму лет полезен полумрак,
тот, кого я в зеркале ищу,
жив еще и выпить не дурак.
Едкий дым истории угарен
авторам крутых экспериментов:
Бог ревнив, безжалостен, коварен
и терпеть не может конкурентов.
С родителями детям невтерпеж,
им сверстники нужны незамедлительно,
а старость – обожает молодежь,
ей кажется, что свежесть заразительна.
За правило я взял себе отныне
прохладу проявлять к дарам судьбы,
однако не хватает мне гордыни
есть медленно соленые грибы.
Неважно, что живу я в полудреме;
пустое, что усну в разгаре дня;
бессонно я всю жизнь стою на стреме,
чтоб век не подменил во мне меня.
Как только уйму свои сомнения,
сразу же осмелюсь я тогда
сесть за путевые впечатления
с мест, где не бывал я никогда.
На душе – тишина и покой.
Ни желаний, ни мыслей, ни жажды.
Выйди жизнь постоянно такой,
удавился бы я уже дважды.
В классические тексты антологий
заявится стишок мой гостем частым:
по мысли и по технике убогий,
он будет назидательным контрастом.
Из бани вьющийся дымок
похож на юность – чист и светел;
смышлен, прыщав и одинок,
в любой мечтал я влиться ветер.
Наш дух питают миф и сплетни,
а правда в пищу не годится,
душевный опыт многолетний
нас учит сказкой обходиться.
Евреи, выучась селиться
среди других племен и наций,
всегда ценили дух столицы
за изобильность комбинаций.
Я сам себе хозяин в быте сельском,
так люди по пещерам жили встарь,
останками зверей во льду апрельском
застыл мой огородный инвентарь.
Да, мужики – потомки рыцарей,
мы это помним и гордимся,
хотя ни душами, ни лицами
мы им и в кони не годимся.
Мой верный друг, щенок Ясир,
дворняжий сын, шальная рожа,
так тонко нрав мой раскусил,
что на прохожих лает лежа.
Судьба моя решилась не вполне,
сомнениями нервы мне дразня:
и дом казенный плачет обо мне,
и дальняя дорога ждет меня.
В истории кровавые разгулы
текут периодически по свету
естественно, как женские регулы,
и нам не изменить природу эту.
Когда наивен, как Адам,
я ничего не знал практически,
от вида нежных юных дам
уже страдал я эстетически.
Давай, мой друг, бутыль употребим —
прекраснее забава есть едва ли,
когда-то я фортуной был любим,
и вместе мы тогда употребляли.
Куда сегодня деться – все равно,
лишь только чтобы двери затворить,
я так с собой не виделся давно,
что нам уже пора поговорить.
Светлой славой
ты свое прославил имя,
ходят девушки восторженной гурьбой,
стонут бабы над портретами твоими
сладострастней, чем когда-то под тобой.
Житейскими бурями крепко потрепан,
чинюсь в ожидании нового курса,
в бутылке души стало меньше сиропа,
но горечь добавила нового вкуса.
Увы, еще придет война,
спросив со всех до одного,
и вновь расплатятся сполна
те, кто не должен ничего.
Чем ночь темней, тем злей собаки,
рычащий хрип – регистр нотный,
и ясно слышится во мраке,
что эта злость – их страх животный.
Философов волнует тьма вопросов,
которыми Господь имел в виду
тревожить нас;
ко мне присядь, философ,
польем ростки в беспочвенном саду.
Отнюдь не свят я, но отшельник,
забыты шум и суета,
я был поэт, я был мошенник
и доскитался до скита.
Нагадай мне, цыганка, дорогу,
облегчи мне надеждами сердце,
не молюсь я ни черту, ни Богу,
но охота куда-нибудь деться.
Жена с утра кота не покормила,
и он поймал мышонка через час;
у нашего российского кормила —
похоже, так надеются на нас.
Мне верить вслух неинтересно,
не верю я открытой вере;
во что я верю, неизвестно
и самому мне в полной мере.
Неявны в тихом воздухе угрозы
грядущего, сокрытого от глаз,
но наши опасенья и прогнозы
заранее расшатывают нас.
Дрязги дряхлых мизантропов —
пенье ангелов в раю,
если б мой душевный ропот
кто слыхал, когда встаю.
Вся жизнь моя в правах поражена,
спокойно могут сжить меня со свету
стихии, власть, бактерии, жена
(поскольку я люблю стихию эту).
Разумно – жить упрямо и нелепо.
То лучшее, что ценно в нас для Бога, —
самим собой проложенная слепо
заведомо неверная дорога.
Бывает время – дух пресыщен,
он сыт и пьян, в себе уверясь,
но ищет, жаждет новой пищи
и сам себе рождает ересь.
Я признаю все игры в прятки
и все резоны уезжать:
когда душа уходит в пятки,
им жутко чешется бежать.
Пылает печь моя неистово,
висит блаженное молчание,
и сердце радует струистое
чернильной глупости журчание.
Доволен я тем, как растет понемножку
бумажная груда, где жизнь моя скоплена,
ко дню, когда вызовут мне неотложку,
в достатке здесь будет прекрасного топлива.
Плоти нашей хрупкие красоты
тихо уступают вихрю дней,
лысины восходят на высоты,
где жила отвага меж кудрей.
Труда тугая дисциплина,
узда и шпоры нашей лени,
лекарство лучшее от сплина
и от излишних размышлений —
такая мерзость!
Редки с диким словом стали встречи,
мех его повыцвел и облез,
даже в родники народной речи
влил бензин технический прогресс.
Чем темней угрюмая страна,
чем она растленней и дряхлей,
тем острей раздора семена,
всюду насаждаемые ей.
Тепло и свет опять берут свое,
все жилы и побеги вновь упруги;
не зрители весны, а часть ее,
тревожно оживляются подруги.
Толпа рабов – не сброд, а воинство
при травле редкого из них,
кто сохранил в себе достоинство,
что люто бесит остальных.
Меня в Сибирь мой жребий выселил,
а я, прильнув к ее просторам,
порой скучаю по бессмысленным
о смысле жизни разговорам.
В себя впадая, как в депрессию,
гляжу, почти не шевелясь,
как порастает мхом и плесенью
моя с людьми живая связь.
Высоких мыслей не было и нет
в корзине этой, шалой и пустой,
хотя в моей душе живет поэт,
но спился и не платит за постой.
Тот Иуда, удавившись на осине
и рассеявшись во время и пространство,
тенью ходит в нашем веке по России,
проповедуя основы христианства.
Восприняв ссылку как гастроли,
душой и телом не уныл,
такую баню я построил,
что все грехи свои отмыл.
Хвала судьбе! Ведь ненароком
намечен в избранные души,
я мог бы стать слепым пророком
какой-нибудь высокой чуши.
Ученые в джунглях науки дичают,
спеша утолить свой охотничий зуд,
и слабо людей от гиен отличают,
и все, что добыли, гиенам несут.
То ухаю тревожно, как сова,
то каркаю зловеще, как ворона;
игра моя блаженная в слова
дается голове не без урона.
Беда вся в том, что иудеи —
отнюдь не явные злодеи,
но чем их пагуба неясней,
тем с очевидностью опасней.
А днем еду я вынимаю
(хлеб, сало, чай – сюжет не нов)
и с удовольствием внимаю
брехне бывалых ебунов.
Гипноз какой-то колдовской
есть в зимних рощах нелюдимых:
с неясной гложущей тоской
вдруг вспоминаешь всех любимых.
Давно уже две жизни я живу,
одной – внутри себя, другой – наружно;
какую я реальной назову?
Не знаю, мне порой в обеих чуждо.
Часть вторая
Похожие книги на "Камерные гарики. Прогулки вокруг барака (сборник)", Игорь Губерман
Игорь Губерман читать все книги автора по порядку
Игорь Губерман - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mybooks.club.