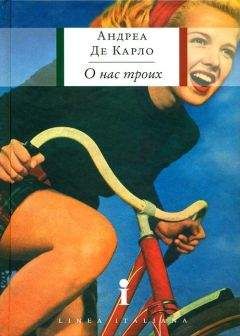Но когда я готовился к защите диплома по истории, мы с Марко оба будто погрязли в болоте и чего только не делали, чтобы выбраться на берег: вели умные разговоры, читали книги, безуспешно пытались выглядеть интересными в глазах окружающих. Работы у нас не было, и ничто не предвещало, что она появится в ближайшем будущем, так мы и сидели без денег, без настоящей любви, а Марко еще и без своего угла. Реальность оказалась беспощадна к нашим фантазиям. Время от времени мы даже переставали видеться, просто чтобы не показываться друг другу на глаза все в том же жалком виде; надеялись, что пройдет какое-то время, и мы накопим впечатления, запасемся идеями, которыми сможем поделиться друг с другом и которые мы еще не успели обсудить до мельчайших подробностей.
Когда я оставался без Марко, мне еще труднее было придумывать, как выбираться на поверхность; иногда я вдруг чувствовал, что грядут перемены, внезапно что-то сдвигалось с мертвой точки, что-то пугающее и упоительное; иногда же казалось, что этот кошмар будет длиться вечность. Я метался в разные стороны, надеясь, что судьба все же подаст мне знак, но все медлил и чего-то опасался, томился тоской, возбуждался сверх меры, вглядывался, вслушивался; несбыточные надежды сменялись приступами удушья и паническими атаками.
Вот в каком я был состоянии, когда познакомился с Мизией Мистрани, она всего за несколько часов разрушила до основания то хрупкое равновесие, в котором я находился, и тут же исчезла, а я даже не заметил, как выбрался из трясины и ступил на берег, только на берегу оказалось еще сложнее, и я замер в растерянности, не зная, что делать дальше.
Я позвонил Марко: хотел поговорить с кем-то о Мизии, а он был единственный, кому я мог все это рассказать, но когда мы, наконец, встретились на полпути между нашими домами, я уже и не знал, как это сделать.
Встреча с Мизией была слишком призрачной, она слишком отличалась от всех моих соприкосновений с внешним миром; я попытался представить, какое впечатление мой рассказ может произвести на Марко, и решил, что скорее всего совсем никакое.
Зато Марко переполняли идеи и планы, накопившиеся за те двенадцать дней, что мы не виделись; он жаждал поделиться ими со мной. Еще со времен лицея мы привыкли часами гулять вместе: встречались где-нибудь и тут же начинали говорить, отмеривая километр за километром, хотя гулять по Милану — то еще удовольствие. Мы бесцельно бродили, почти не глядя по сторонам, разве что какие-нибудь лица вдруг привлекали наше внимание; мы напоминали арестантов, которые ходят круг за кругом по тюремному двору, единообразно и исступленно, и все строят планы бегства.
Пару месяцев назад Марко в голову пришла новая идея — снять фильм. Как-то вечером он позвонил мне и сказал: «Я тут кое-что придумал, нам срочно надо встретиться».
Тогда мы тоже отправились гулять по улицам, запруженным автомобилями, и Марко рассказал, как он представляет себе этот фильм. Поначалу я решил, что это одна из тех абстрактных идей, которые то и дело посещали нас обоих, очередная попытка взяться хоть за какое-то дело, и, как все подобные идеи, она забудется через несколько часов, через день, после первого же столкновения с реальностью, энтузиазм поутихнет, и сама идея наскучит. Но с фильмом все получилось иначе, Марко продолжал говорить о нем и через день, и неделю спустя, и чем больше он о нем говорил, тем реальней он становился, наполнялся звучанием, образами, внутренним ритмом, игрой света. Казалось, что Марко рассказывает об уже снятой картине, которую видит собственными глазами и описывает кадр за кадром, иногда останавливаясь и перематывая пленку назад, чтобы обратить мое внимание на какие-то детали, промелькнувшие слишком быстро и оставшиеся незамеченными. Все это звучало в высшей степени высокопарно, что было типично для него, когда он давал себе волю: он делал ударение на отдельные слова, жестикулировал, останавливался и пристально смотрел на меня лихорадочно горящими темными глазами, словно опасаясь, что его замысел вот-вот канет в лету, исказится, просто разочарует его — стоит лишь отвлечься на мгновение.
Я слушал Марко, и мне казалось, что он извлекает из, на первый взгляд, пустого чемодана один за другим предметы самой невероятной формы и окраски, а потом, спустя несколько секунд, они исчезали без следа. Я с привычным восхищением следил за полетом его фантазии и старался не отставать, добавлял от себя кое-какие штрихи. Обычно мы понимали друг друга с полуслова, в подробных объяснениях, комментариях или расшифровках не было нужды: стоило Марко озвучить какую-то идею, и мои мысли летели за ним вдогонку с головокружительной быстротой. Наши задумки получались отработанными и готовыми к употреблению, но далекими от реальности, и все устремления оборачивались неспособностью пробиться в отгородившийся от нас глухой стеной мир, который решительно отвергал все наши робкие и страстные порывы.
Уже больше двух месяцев мы с Марко при каждой встрече обсуждали фильм, и в этот раз занялись тем же; мысли о Мизии отошли на задний план, казалось, я совсем забыл о ней. Марко начал заносить все рождающиеся у него идеи в небольшую тетрадь на спирали, которая теперь была исписана его наклонным почерком: все заметки пронумерованы, соединены стрелками, помечены звездочками. Он болтал без умолку, время от времени доставал из кармана тетрадку и зачитывал мне что-нибудь, останавливаясь посреди тротуара; прохожие оглядывались на нас в недоумении.
— Большая пустая квартира, — говорил он. — Роскошная, в центре города: деревянные полы, огромные окна. Но без мебели. Он оказывается там совершенно случайно. Например, что-то приносит. Или, допустим, читает в газете объявление: требуется такой-то и такой-то, как тебе?
— Кто именно? — изображая из себя тугодума, то есть играя свою обычную роль, я должен был действовать на него раздражающе.
— Еще не знаю, — быстро и раздраженно отвечал он. — Да кто угодно. Ну не знаю, пускай садовник. Он садовник.
— Садовник в Милане? — удивлялся я. Мне не нравился мой голос, не слишком внятный и какой-то блеклый, не такой, как у Марко.
— К черту реализм, — говорил Марко. — Нам не нужны документальность, правда жизни, законченность, степенность.
— Да, да, согласен, — говорил я.
Когда он учился во втором классе лицея,[13] а я в первом, мы взяли палатки и отправились в путешествие на западное побережье Италии и даже не подумали захватить с собой спальные мешки или одеяла. Первую ночь мы провели, лежа прямо на пластиковом дне палаток; в четыре утра, промерзнув до костей, вылезли наружу и принялись скакать по полю, как два кузнечика-эпилептика — не справились с первой же бытовой проблемой. Хороший пример, чтобы понять, насколько мы оба витали в облаках.
Фильм для нас, конечно, тоже был абстракцией, наш багаж ограничивался зрительским опытом и буйной фантазией; мы понятия не имели, с чего начинать. Я почти не сомневался, что все обернется точно так же, как когда мы вдруг собрались переехать в Америку, или незаконно отремонтировать заброшенный дом возле пересохшего канала, или открыть прачечную с вызовом на дом, и как только мы столкнемся с практическими вопросами, то тут же спасуем, и нас постигнет полное разочарование. Но на этот раз Марко возвращался к своей идее с невиданным прежде упорством, казалось, что фильм стал его неотъемлемой частью, его надеждой на спасение.
— Нет, не так. — Марко яростно шагал дальше. — Ему по почте приходит конверт, а внутри только ключ и клочок бумаги с адресом. Он просто идет по этому адресу, и все.
— Из чистого любопытства, — говорил я. — Не представляя, что его там ожидает. Идет — и всё.
— Так он устроен, — подхватывал Марко. — Заглатывает любую случайную приманку. Повсюду видит знаки судьбы, он фаталист.
— Вроде тебя, — подхватывал я, не слишком, впрочем, уверенно.
— Не знаю, — Марко скользил взглядом по загаженному тротуару. — Думаю, он более странный. Оторванный от мира и людей. У него внутри хаос, понимаешь?
Мы с Марко Траверси ходим и ходим по улицам Милана, говорим без умолку и возбужденно жестикулируем, не глядя по сторонам и ничего не замечая. Шаркаем по асфальту, идем сбивчивым шагом, судорожно вздыхая, и все говорим и говорим: море слов — единственное наше богатство; выхлопные газы отравляют кровь, и это только подпитывает наше болезненное воображение.
В субботу днем я лежал поперек дивана, курил гашиш бурого цвета, который приятель привез мне из Ливана, читал рассказ Стивенсона о южных морях, как вдруг зазвонил телефон; я подошел не сразу, пропустил гудков семь-восемь. Когда, наконец, я взял трубку, оказалось, что это Мизия. «Как дела?» — спросила она самым естественным и дружелюбным тоном на свете.