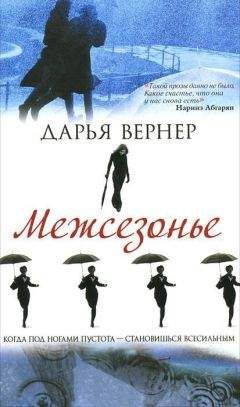— Не знаю… меня все больше свои продавали. Русские. — И вспомнил Гречанинова слова и почти повторил их: — Тут такое дело: предать может только свой. А чужой — он и есть чужой, с него какой спрос.
Да в том же Кремле, с самого начала — кто сидел, нас продавал? Хуже некуда, когда свои.
А тот все расспрашивал — ну, как у бабы любопытства… И кое-что об Алма-Ате ему, так и быть, о Бендерах тех же рассказал, когда руманешты прорвались туда, вломились, и как грабили, убивали подряд, — для того еще, может, рассказал, чтоб на лицо его поглядеть… Вполохоты говорил, самого кривило. Лоскут, на стол навалившись и голову обхватя руками, будто и протрезвел даже, глядел в упор и неверяще, это еще и волю иметь надо верить такому, принимать как оно есть… Нет, не смог сразу, не вместилось:
— А ты, это, не… Весь, паразиты, класс?!
— Весь.
Василий усмехнулся даже: «паразиты»… Если бы. Выругаться толком — и то сил не стало, что ль? Как дети они тут, в глубинках этих наших, что ни скажи — всему дивятся. И ничего, похоже, не научит таких, разве что беда великая… будто им нынешней мало. А мало, еще и на другой даже бок не повернулись пока — на печи на своей.
Все еще растерянный, обиженно хмуря безбровое лицо, Федька изо всех сил, видно было, собирал мысли — и рукой на себя махнул:
— Не, это не жизня. Это… — Махнул опять, слов не находя; но и что-то проглянуло в бледно-голубых его, хмелем вымытых глазах, осмысленное. — Стало быть, как выходит-то… Из родовья всего вашего — ты да Райка, выходит, остались? Да девки, племяшки? — Василий не отвечал, глядя в затопленное сырыми сумерками, паутиной между рамами заросшее окно. — Племяши — не племя. Гинут люди, как… Это чево же, война идет?
А ты не знал? Ты — не гинешь тут? Война, да подлая какая, из-за угла. Разгадали нас, расковыряли начинку: на заманки всякие и лесть с подковырками, как последних дураков, на обезьянство наше же взяли. Изнутри, из нутра нашего поганого. Но Лоскуту о том говорить — все равно как ребенку, за себя не отвечает. Да и всем-то нам теперь — что, после драки кулаками махать? Если б чему учились еще, а то ведь и этого нет, все не впрок. У поляков спекуляции, вот и все ученье, да разной дряни отовсюду понабрались, что ни есть хуже, то и наше, обезьянье; а как дурили нас продажные, так и дурят второй десяток лет — то трепло с алкашом, а то мальчик этот гуттаперчевый теперь, вся эта гнилуха кремлевская. Надели парашу на голову нам всем и делают вид, что все тип-топ. Даже и во вранье-то не особо исхитряются, оборзели, для придурков и так сойдет…
Ладно, хватит — политики не наелся, что ли? До тошноты уже, мутит. Как от самогонки этой, мутной такой же, разум изымающей и остатки воли какой-никакой, надобности дальше как-то жить…
Жить?
Давно не пил, да и никогда этим не увлекался — так, по необходимости какой разве; и потому, может, забрало, будто какие узлы распустило в нем и завязки, на которых как-то держался еще до сих пор, расслабило — мешком сидел, слышал и не слышал чушь всякую косноязычную, какую нес теперь Лоскут, даже и руками не размахивая уже, а лишь дергая ими, похихикивал с чего-то, подмигивал… да, напрочь забыл уже, о чем только что говорили, счастливец, и черта ль в памяти его этой на ерунду? Приходи сюда без оружия всякого и бери их, простаков, — голыми руками бери.
Но и не это даже, не столько тоска пораженья пригнула доземи его, до столешницы с черствым этим хлебом изгнанья, и где — в углу родимом… Выявилась вдруг, стала зримой воочию и до конца вся бессмыслица житья его здесь — да и где бы там ни было, в чужени тем более, где так нахолодался, озлел и одичал, что уж сам себя не узнаешь… Не здесь — и нигде? И нигде.
— Вставай, слышь… Все, давай. Кончать надо.
Вывел, поддерживая, соседа за ворота, тот все обниматься лез; зачем-то поглядел — дойдет ли? — помедлил и вернулся, дверь не запирая, в накуренную, провонявшую сивухой духоту избы. В стакане оставалось, допил с отвращеньем ко всему, к себе тоже; подсел, сам шатнувшись и еле равновесье удержав, за перегородку схватясь, к устью печки, прямо на пол.
Дрова почти прогорели, над углями то появлялись, то исчезали, шаяли, перебегали потаенно синие — как семафоры на станционных путях, вспомнилось почему-то, — зовущие огоньки… синие — это открыт путь или нет? Пусто было, муторно и ненужно все в среде людей и вещей, прошлых ли, уже запропавших в вязком, как многослойный наносный ил, времени, или завтрашних, обреченных все той же суете бессмысленной и маете, дрянной слезливости и жестокости человеческой, вот им-то, одинаково омерзительным, конца не виделось. Где-то был, должен быть Бог — но так далеко отсюда, от этого тинисто-беспамятного и зловонного дна жизни, что даже крики детские, жалобные не долетали туда… даже и ужас их детский и беспомощность перед равнодушной злобой существования не могли пронять, преодолеть эти мертвенные дикие, во зло, как и время, обращенные тоже пространства до Него. Или средостенья, стены неощутимые и потому неодолимые, бейся не бейся в них разумом жалким своим иль невразумительной душою. И только одна была дорога туда, иных не знал никто.
Как никогда, может, осознанно ненавидел он теперь этот мир мучений и страха, сиротства неискоренимого. Закурил, смял в кулаке пачку с оставшимися сигаретами, кинул на жарко дышащие угли. Она вспыхнула и расправляться стала, будто это душа некая в ней распрямлялась, рвалась обрадованным косым пламенем в вытяжную. Отправил туда же окурок, не сразу и тяжело встал, ткнул задвижку трубы, до отказа.
Не думая больше ни о чем, лег в чем был на постель, смежил наконец глаза. И, показалось ему, тут же заснул; и только что-то — часы ли (нет, ходики он так и не запустил пока, разобрать бы, в керосине, а лучше в солярке шестеренки-колесики промыть) или тяжелая кровь в висках — начало размеренный отсчет.
Он спал, а ему считало — долго, как-то слишком уж долго и нудно, будто кто нотацию, нечто увещевательное читал. А с какого-то момента стало считать все громче и требовательней, с откуда-то взявшимся звоном отзывным, и уже стучало, чуть ли не било в уши; и он разлепил больные, ломотою сведенные глаза, что-то тревожащее было, не то, не так… свет! Забыл выключить в кухоньке свет. Выключить надо.
Поспешно, как мог, поднялся и, опираясь на стену сначала, потом на горячий печной бок и чуть не упав в дверном проеме перегородки, дошел, выдернул задвижку, вырвал ее целиком и уронил на плиту — с великим, показалось, грохотом… а зря, зря. Пинком, неверной рукой затем толкнул дверь, выбрался в сенцы, дегтярно-стылый их, свежий необыкновенно воздух ртом хватнул, всеми легкими, и его повело, ткнуло куда-то… на высокую железную бочку пустую, для комбикорма тут всегда была, и он чуть не разбил себе лицо, хорошо — за край успел схватиться, за надежный, крепко стояла бочка. Волна тепло-смрадного избяного духа, в котором учуял он теперь окалинную угарную вонь, дошла до него, догнала; но и сил будто не оставалось дотянуться до сенишной, в двух всего шагах, двери — и с каждым его судорожно-глубоким вздохом паническим они, кажется, все убавлялись, в глазах кругом пошло… Грудью на крае бочки лежа, уронив голову в ее невыветрившуюся еще хлебную пыль, от дыханья взнявшуюся, он как-то собрался все ж, оттолкнулся от нее к двери и уж по ней сполз наискось к стене, свалился.
Лежал, отдыхивался, воздух все-таки возвращал сознанье, помалу замедлял круженье, утишал звон в голове и ушах, восстанавливал в глазах смутно угадываемые очертанья всего обихода просторных, за амбарушку им служивших сеней. Но, хоть и разреженный, все острей чувствовался здесь идущий низом угар; и он наугад и не сразу нащупал узкую щель между косяком и дверным полотном, с трудом втиснул туда непослушные, словно занемелые пальцы и, ломая ногти и боли не чувствуя, дернул раз, другой… примерзла она, что ли? Нет, это сам он слабым таким оказался отчего-то: дверь подалась, скрипя и постанывая в петлях, отъехала в сторону… И у него поехало в глазах; но уже он схватился за ледяной, с наношенным сапогами и намерзшим снежком порог, подтянулся насколько мог, головою за него, наружу — и его надсадно и вконец обессиливающе вырвало, вывернуло…
Прошло, может, с десяток минут или куда больше, когда он, замерзший и опустошенный, все же встал на подкашивающиеся, крупной дрожью прядающие ноги. Постоял, за косяк держась, обвыкся; и с горем пополам, по бочке и давно пустому тоже ларю с валяющимся на дне самогонным аппаратом городской замысловатой выделки, вернулся в кухоньку, помыл-повозил пятерней лицо под умывальником, кашляя и давясь, вытерся скомканным полотенцем. Наверное, вытянуло уже дурь, но верить этому он еще не мог. Нашарил над притолокой дверной шапку, ватник солдатский иванов напялил кое-как на себя и перебрался к сенишной опять двери, переступил порог.
Апрельский тонкий, с едва уловимым запахом отмякших за день земляных проталин и прели прошлогодней всякой, воздух покоен был во тьме своей и высоте, молчалив. Не морозец уже, а так, заморозок легкий самый стоял, еще вечерний, когда сквозь рушимый сапогом с хрустом и звонким шорохом ледок продавливается жиденькая, первого неуверенного замеса грязца и нет-нет, да и капнет припоздало с сосульки, звякнет игольчатыми ледышками в проторенном капелью лежалом снеге, в тропке ее прямой вдоль застрехи крыши…… Привалясь к столбу навеса над крыльцом, он пусто и бездумно глядел в прозрачную весеннюю темноту, дышал, одолеть пытался боль в висках и тошнотные позывы головокруженья. Все молчало в нем, будто напуганное случившимся; и он не спрашивал никого ни о чем и ничему не отвечал, он устал очень.