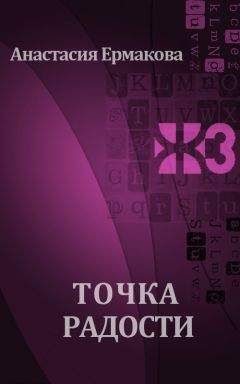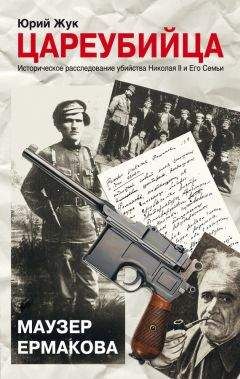Кареглазая пышногрудая музыкантша Лиля, никому не позволявшая прибавлять к ее имени отчество, возможно, потому, что ее отца, немца, звали Карл, и к нежному имени Лилия отчество лепилось грубо и неуместно, пела раньше в каком-то хоре и сносно умела играть несколько расхожих мелодий на фортепиано. Здесь, в пансионате, ей было поручено вести хоровую студию и готовить доморощенные концерты к праздникам. С четырех до пяти вечера по этажам разносилось дребезжащее старческое разноголосье, то и дело прерываемое звонким хлопаньем в ладоши и энергичными окриками Лили: «Стоп-стоп, Светлана Сергеевна, вы что, не слышите, что фальшивите? А вы, Георгий Петрович, ниже берите, ниже, из-за вас же не слышно Олега Степаныча! Так, давайте еще раз. Ну, приготовились! И…» Старики бодро запевали: «Идет солдат по городу, по незнакомой улице…» Голоса их метались по зданию, как очумевшие птицы, внезапно залетевшие в замкнутое пространство и ударяющиеся о стекло в поисках свободы. На праздниках хор старательно исполнял свой тощий репертуар, после чего в зале плескались жидкие аплодисменты редких родственников. А Олег Степаныч, самый бодрый старичок в пансионате, бывший моряк, исполнял на бис «яблочко», после изнурительного танца опрокидывал заготовленную заранее для такого случая стопку коньяку, а потом с полчаса отлеживался у себя в номере…
Для приступов внезапной страсти обремененные семьями физкультурник и музыкантша использовали номер любопытной и охочей до чужих романов мадам Марьяны (так ее звали в пансионате), сама же она отправлялась флиртовать, впрочем, пока безуспешно, с моряком Олегом Степанычем.
В шесть вечера утомленная хоровым пением и опустошительной радостью запретного слияния, Лиля садилась в новенькую «Хонду» Артема Иннокентьевича и уносилась прочь.
Сегодня дежурит усатый и улыбчивый Толик. Он всегда заигрывает со мной, причем, осознав тщетность своих мужских устремлений, превратил эти заигрыванья в необременительный утренне-вечерний ритуал, помогающий ему преодолевать сонливую потную скуку суточного бдения.
— О, Настена! Привет! Замуж-то за меня еще не надумала?
— Толь, но я же теперь не одна, — показываю глазами на свой живот.
— Ниче, пусть будет, мы еще одного родим!
— Давай только по очередности, ладно?
— Да не вопрос. Я подожду. Ох, Настена, ну, почему такие девчонки другим достаются, а?
— Да ты бы со мной, Толь, все равно не смог.
— Почему это?
— Ну, я лентяйка. Готовить не люблю…
— Ерунда! Ты знаешь, какой я плов варганю! Вот приедешь ко мне на дачу, я тебе забацаю. Приедешь?
— Не-а.
— Ну, вот, всегда так. А я-то надеялся…
— Ладно, Толь, пока! До вечера.
— Иди-иди к своим душевнобольным. Конечно, с ними интересней…
В холле здороваюсь с уборщицей тетей Грушей и с местной сумасшедшей Антониной Андреевной, постоянно вяжущей бесконечные носки для несуществующих внуков от несуществующих детей. Она поднимает задумчивое тусклое лицо, показывает мне узор.
— Как вы думаете, Аллочке понравится?
Аллочка — одна из ее придуманных внучек. Есть еще Оленька и внук Костик.
— Конечно, я думаю — очень.
Больная улыбается и снова принимается за вязанье.
Был момент, когда с переходом ДЗО № 34 из рук государственных в частные решался вопрос о возможности дальнейшего пребывания старухи в этих стенах, однако объявился племянник, пожелавший жить в ее двухкомнатной квартире в центре Москвы и готовый за это оплачивать содержание больной. Тогда дирекция к тихому помешательству его тетушки отнеслась с пониманием, и в психбольницу ее решено было не отправлять.
Поднимаюсь на второй этаж, в свой кабинет. Стол, два кресла, одно мое, другое для посетителей. На стене одна из написанных мной маслом работ «Пионы в банке». Банка кривовата, лепестки неуклюже топорщатся в разные стороны — чувствуется неопытная рука, но старикам нравится, говорят — создается ощущение, будто цветы пахнут.
Из окна вид на кленовую аллею. Здесь два года назад я подобрала Хвоста. Непонятно, как он забрел сюда и притулился, облезлый, с обрубком вместо хвоста, на снегу под скамейкой. Несколько дней старухи носили ему остатки еды из столовой, принесли и подстилку — старое зимнее пальто. Но пес согреться не мог — смотрел на людей испуганными гноящимися глазами и непрерывно дрожал. Прослышав об оскверняющей парковую зону безродной псине, заведующая Ироида Евгеньевна приказала охранникам изгнать животное. Сердобольный Толик, вместо того чтобы выгнать собаку, пригрел ее на несколько дней в своей будке. Но убежище было явно ненадежным — Ироида могла нагрянуть в любой момент. Я посмотрела на переставшую наконец дрожать, настороженно дремлющую дворнягу. «Знаешь, — внезапно решилась, — давай я возьму». Когда вечером привезла ее домой, муж, брезгливо оглядев, поморщился: «Вот ты всегда так, постоянно совершаешь идиотские поступки. Ну, скажи, на кой черт она тебе?» «Это не она, а он. Я буду звать его Хвост», — сказала я. Хвоста муж не обижал, просто не обращал на него никакого внимания. Однако пес, в благодарность за обретенное наконец жилище, распространял свою любовь на всех: когда Саша приходил домой, он так же, как мне, лизал ему руки.
В самом конце аллеи виднеется будка Толика. Пытаюсь представить, что он там сейчас делает. Наверное, смотрит свой маленький телевизор или читает очередную книгу фэнтези, которым с подачи своего напарника, Виктора, увлекся в последнее время.
Поливаю отстоявшейся водой бархатистые разноцветные фиалки, вытираю влажной губкой пыль с их мохнатых темно-зеленых листьев. Сажусь за стол, беру в руки стопку недавно отснятых фотографий — оформляю так называемые стенды памяти. Дни стариков однообразны и невыразительны и перепутываются как нитки неумело распущенного свитера. Кроме того, у многих прогрессирует деменция, ослабляющая функцию памяти, а фотографии, запечатлевшие их повседневную жизнь, помогут вспышками-мгновениями восстановить прожитые дни. Вот моряк принимает от безнадежно влюбленной в него мадам Марьяны яблоко, вот тихоня-вязальщица Антонина Андреевна, любующаяся своей работой, вот Светлана Сергеевна сидит, задумчиво глядя в окно на падающий снег. Это она мне сказала как-то на приеме: «Я мечтаю только об одном: о сохранении способности мечтать…» А вот эпизоды из столовой, из парковых прогулок, из комфортабельных, с душем, туалетом и телевизором, номеров. Но я чувствую, как со всех этих благополучных фотографий дует, дует пронизывающий ветер затянувшейся осени…
Кнопками прикрепляю снимки к большому куску ватмана, потом придумаю какие-нибудь названия и вывешу на первом этаже, в вестибюле. Думаю о том, почему фотографический архив каждого человека с возрастом уменьшается. Сколько у нас смеющихся детских фотографий, немало и юношеских, значительно меньше в зрелом возрасте, а в старости их почти и нет, так, две-три. Может, это происходит оттого, что взгляд, напитавшись мудрости, фокусируется не на внешнем мире, а на внутреннем? А может, просто потому, что смотреть на молодое лицо приятнее, чем на старое. Пытаюсь представить старуху, рекламирующую крем для омоложения кожи. Абсурд, хотя вроде бы крем ей всего нужнее. Нет, на экране цветущая женщина, улыбаясь, рассказывает, как с помощью содержимого маленького чудодейственного тюбика лет десять как рукой снимет и можно будет снова рассчитывать на жизненно необходимое мужское внимание. Даже здесь, в Доме престарелых, без него не обойтись. В какие причудливые шляпки наряжается мадам Марьяна, чтобы понравиться моряку! А на 8 Марта все женщины «Кленов» становятся похожи на укутанные в праздничную упаковку засушенные розы, источающие печально-сладкий аромат увядания. И блеклые хрупкие улыбки нежно цветут на их лицах…
— Анастасия Александровна, к вам можно? — заглядывает в кабинет Светлана Сергеевна.
— Да, конечно.
— Я принесла вам новые сны. Вот, взгляните.
Ходят ко мне не все обитатели «Кленов», но некоторые постоянно. Одни заходят пожаловаться, другие просто поболтать, рассказать о своей так долго длящейся и так моментально промелькнувшей жизни.
Помню, на курсах английского для начинающих преподаватель предложил задать друг другу вопросы. И я спросила у своей соседки, полной, с анемичным лицом: «Are you happy?» Девушка оторопела, удивился и преподаватель: «Ну что вы, разве об этом спрашивают? Поинтересуйтесь лучше, сколько комнат в ее квартире, с кем она живет, где работает и так далее…» Но мне не было никакого дела до количества комнат в ее квартире, меня волновал только один — этот вопрос.
Здесь, в «Кленах», я задаю его каждому, кто ко мне приходит. И почти никто не сказал да или нет, чаще всего — не знаю. Жаль, что состояние счастья скоротечно и не имеет протяженности, не умеет перерастать во что-то надежно устоявшееся. Мерцает, как светлячок в ночной летней траве, зеленовато светится в спрессованных пластах прошлого. Вспыхивает ярко, но зыбко в уже ускользающем из рук настоящем. Обманно маячит в толще невесомого будущего.