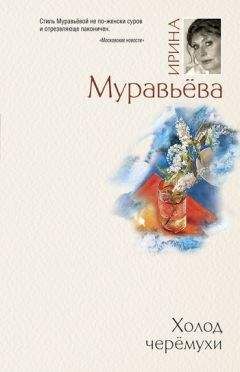— А что же Коля–то умер? Болел что ли? — поинтересовалась я.
— Не болел — сердце. А так сильный был, крепкий… Никогда на здоровье не жаловался. — Голос Прасковьи дрогнул.
— А фотографий нет Николая?
— Как нет, вон полный альбом в шкафу. Возьми, листай, — сказала она Антонине, показывая на полку. — И дети снимали, и внуки. А ты куски–то покрупней нарезай, а то начинка повылетает, — подсказала мне.
Антонина достала пухлую папку с фотографиями.
— О–о–й, детонька, а что ж с твоей спиной–то? — вдруг охнула Прасковья, заметив, как повожу я плечами, стараясь унять боль. — Никак обгорела? — Она взглянула на мою обожжённую спину.
— Есть немного. — Я откусила от пирога. — По солнцу много ходили, сгорела. И проголодалась! Как вкусно! — похвалила. — С капустой и грибами?
— Бери, ешь! Там с луком и яйцами есть, и сладкие. Все нарезай, не жалей. Вот что, милая, бросай резать, — вдруг сказала Прасковья и забрала нож. Убрала в сторонку. — В погреб пошли, подсобишь мне. Чую я, намаешься ты со своей спиной.
Мы вышли во двор. Увидев меня, Бориска заворочался в будке. Подал голос.
— Ты не бойся, — сказала Прасковья. — Он добрый. В будке так сидит — для острастки. И мне для компании. У нас ведь нынче хулиганство, — она серьёзно посмотрела. — Раньше, бывало, на целый день уйдём — на сенокос или в поле, дверь не запираем. Так, щеколду зацепим — от ветра и чтоб куры не влетели. И собак не держали. А теперь к тем, у кого дома покрепче, хозяйство какое, бездельники да тунеядцы стараются влезть ненароком. А я что же — одна… И ночью страшно…
— А что за тунеядцы? Местные? — не поняла я.
— И местные, и из города приезжают, шатаются. Пьёт население–то. — Прасковья вздохнула. — А в деревне всегда есть чем поживиться.
Мы прошли по прибранному двору в пристройку.
— Там у меня огород, — махнула вдаль хозяйка.
Я увидела ухоженные грядки.
— Морковка есть? — спросила.
— И морковка, и лук, и чеснок… Всего понемногу. Хочешь морковку? Пойдём! — Она потянула меня в огород. Мы прошли мимо курятника к грядкам. — Цепляй, земля пушистая, мягкая. Ищи покрупнее. Тащи!
Я легко вытянула за хвост «девицу в темнице» — большую сочную морковку.
— Вон, мой в кадушке.
Я вымыла и захрустела:
— У–у–у! Вкусно!
— А что же не вкусно — на солнце пригрето. А земля–то какая у нас — пух! Здесь у меня баня, — показала хозяйка. — Хорошая у меня баня, справная. Вам бы в баньке попариться! Может, поночуете? Баню запарим? Славная баня — истинно, я не хвалюсь. Колюша старался, строил. Лавки широкие и каменка новая. Оставайтесь, у меня и веничек приготовлен.
— Да какой там париться. — Я повела плечами.
— Правда, спина у тебя непорядок, — вспомнила она. — Но мы это быстро поправим.
Прасковья открыла погреб. На нас дохнуло холодом.
Заткнув подол нарядного — будто концертного — платья, она ловко нырнула в морозное чрево.
— Компот какой любишь? Вишнёвый? Клубничный? — крикнула снизу.
Банки с вареньем, соленьями и маринадами мы внесли в дом и составили у порога.
— Это с собой возьмёте. От меня гостинец. — Прасковья махнула на цветную шеренгу.
Я запротестовала.
— А как же! Без гостинцев нельзя, — не согласилась хозяйка.
Потом она налила из холодной кастрюли, из погреба, в миску сметану и стала размешивать её большой ложкой.
— А теперь скидывай платье, — скомандовала.
— Что? — не поняла я.
— Снимай платьишко–то, не стесняйся! А то запачкаю. Лечить спину тебе буду. Хорошая сметана, жирная — из- под Дуни — моей коровы. — Она облизала ложку.
Мне было трудно сопротивляться. Я находилась в поле её притяжения. От душевного обаяния незатейливой бабы–крестьянки стала безвольной.
Прасковья неспешно двигалась, размеренно, спокойно говорила, словно баюкала, а из глаз на меня проливался тёплый свет. Окутывал и успокаивал. Может, это и есть тыл, защита, о которых сокрушалась Антонина? Я уже не видела её узловатых пальцев, скованных непомерным трудом, загорелого, землистого цвета щёк, глубоких морщин на лице от солнца. И даже неуместный концертный балахон мне нравился. Хотелось слушаться и подчиняться. Плыть по течению. Потому что знала — все на пользу. Вот скажи сейчас Прасковья: «Айда корову доить!» — в закоулках сознания память разыщет и этот древний инстинкт.
Я, не раздумывая, сняла своё маленькое платье и осталась в трусиках. Присела на корточки. Забрала волосы на макушке в пучок, чтоб не испачкать.
Прасковья налила на пылающую спину белой жидкости и корявой ладонью осторожно размазала. Сметана была прохладной, приятной. Мгновенно тушила жар солнца.
— О! — Я осторожно двинула плечами. — О-оо! Не больно! — дёрнула сильнее. — Вы, Прасковья, волшебница!
Она засмеялась:
— Больно худенькая ты, девонька, будто не кормлена.
Я услышала в голосе жалость. Ощутила, как разглядывает.
— Мои–то снохи посправней будут, помясистей. А ты… кожа да кости!
К нам в комнату заглянула Антонина. Я сидела на полу, скрючившись, в молочных подтёках.
— Что, и мужик не протестует? — продолжила пытать хозяйка.
— В смысле?
— Против тощих боков? — Она больно ткнула меня пальцем.
— Нет, нравится — талия, — ответила я.
— Таа–алия! — Прасковья фыркнула. — Вот и моя сноха Настёна все на диетах сидит. Щеки ей, видите ли, больно круглые! Она у нас румяная, ладная, — сказала с уважением. — Утром натрескается блинов с мёдом, а потом на диету. До вечера.
Откинув голову, Прасковья весело засмеялась, обнажив крепкий белозубый рот.
— Хорошая девка! Работящая! А это что же, — она поддела резинку на моих полосках–трусах, — мода такая? Материи что ли сшить не хватило? Правда сказывают, кризис. — Она совсем развеселилась и расхулиганилась.
Подставив ладонь под ложку, чтобы не капало, понесла посуду к умывальнику.
— На, прикройся, — кинула мне простыню. — А ты не обгорела? Давай и тебя намажу, — предложила Антонине.
— Нет, я в тени стояла. — Антонина прислонилась к печке. — Хороший у вас дом, Прасковья. Коля строил?
— А кто же — он. Сам и строил. Сыновья помогали. На все руки был мастер. Как я теперь без него? — воскликнула вдруг хозяйка. — Год прошёл, а я все никак не отойду от горя. Проснусь ночью, рукой пошарю, а нет рядом моего Коленьки… такая тоска… — Она заплакала.
Я тоже почувствовала в горле ком. Посмотрела на Антонину — и у той в глазах слезы.
— А давайте помянем Колю! — предложила.
Мы сели к столу.
— Хорошо вы жили? Не ругались? — спросила Антонина, закусывая огурцом.
— Как не ругаться — всякое было, — Прасковья вздохнула. Последнее время закладывать стал он маленько. Я к водочке ничего, спокойна. Должно ж в жизни ещё что быть окромя работы: компания, угощение. Только он как–то все в одиночку — мне это не нравилось. Сосед вон выпьет и спать до утра — в постель или на печку. Проспится и снова все ладно, справно. А Коля другой был. Пропустит рюмашку, буйствовать начнёт, все про политику рассуждал. Правители ему, видите ли, не нравились, губернатор. Очень уж расстраивался: и пенсия маленькая, и колхоз загибается. — Ой, — она вдруг опомнилась. — Что же, вы и про это в газету напишете?
— Не напишем! — пообещала я. — Это между нами…
— Между нами говоря, Коля меня порой и поколачивал. — Прасковья перешла на шёпот. — Раз или два было.
— Да ну… — не поверила я.
— Да. А так ничего жили, не жалуюсь. Счастливо. Всем бы так… А давайте споём! — вдруг предложила Прасковья и ее глаза засияли. — Про вечер. Больно уж Коле эта песня по душе была. Слова знаешь? — спросила Антонину.
Та кивнула.
«Ой, то не вечер — то не вечер… Мне малым–мало спало–о–сь…», — заголосили они в два голоса. Пели–выли. Навзрыд, взахлест — словно от нестерпимой боли. Их сильные голоса дрожали, перекрывались, верхние ноты не слушались, поддавались не сразу. Они захлёбывались — не хватало воздуха. Каждая говорила о своём, выстраданном, наболевшем. О своём и об одном и том же. Песня освобождала от тяжести, сердечного груза, выплёскивала скорбь и печаль, — тоску о любимом человеке. Слезы катились из глаз — от тоски ли, от выпитой водки…
— Хорошо поешь ты, справно, — похвалила Прасковья Антонину и фартуком вытерла лицо. — Мне понравилось.
Антонина от похвалы зарделась.
— Только вот в одном месте неправильно, ноту сфальшивила.
— Где это? Не может быть! — возмутилась гостья.
— Как не может — я слышала. У меня ухо острое! — стояла на своем хозяйка.
— Эту песню я, знаешь, сколько раз пела! — воскликнула Антонина.
От моего взгляда певица остыла.
— А это что? — Я поспешила перевести разговор. Показала в фотоальбоме среди фотографий пожелтевшие от времени газетные вырезки. — Какие–то газеты…