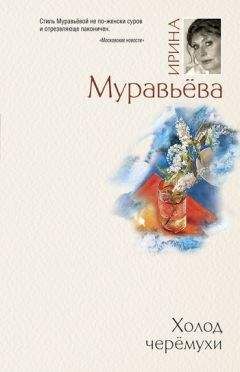— Это? Коля собирал. Очень ему хор Пятницкого нравился. Вот он и вырезал из газет, если статья какая или фото. Там эту песню про вечер я и услышала. Хорошо поют, красиво.
— Любил народные песни?
Листая, я увидела в газете фотографию Антонины в русском кокошнике.
— Очень любил. В Москву даже ездили, на концерт ходили.
— Когда? — встрепенулась Антонина. — В каком году?
— Да не помню уж год–то. Давно было. Славик наш школу окончил — это значит… — Прасковья прикидывала в уме. — А по правде сказать, сдаётся мне, что неспроста он все эти вырезки складывал. — Она сделала паузу и выразительно на нас посмотрела. — Знакомая у него там пела.
— Да ну? И кто же? — вскрикнула я, деланно удивившись.
— Рассказывал мне как–то по пьяни. Любил, говорит, а она в Москву улетела.
— Не ревновали? — спросила я и осторожно посмотрела на Антонину.
Та сидела бледная, притихшая, стараясь не выдать себя, превратившись в слух.
— А что ревновать–то? К телевизору? — Прасковья прыснула в кулак.
Мы засмеялись.
— А мне–то что? Мне хорошо! Концерт посмотрит, расчувствуется. Ко мне на перину лезет — жаркий, до меня охочий. Плохо ли? И ему хорошо, и мне польза. — Она озорно засмеялась. — Коля у меня огненный был. — От переизбытка чувств Прасковья задохнулась. — На него и здесь охота велась. К Люське на лето из города сестра двоюродная приезжала. — Хозяйка захмелела и стала еще разговорчивей. — Так вот она на моего Колю глаз положила. Проходу ему не давала, бесстыдница, глаза мозолила. А он бригадиром в колхозе, ему то в поле, то на ферму — везде на виду. А она за ним! Стыдоба… — Прасковья сокрушённо покачала головой.
— И что? — спросила я.
— Так вот я с Люськой и сестрой её поговорила… — Она показала кулак. — Я тоже женщина горячая… Представляете?
Мы представили и захохотали.
До вечера просидели мы в гостях у Прасковьи. Она все говорила и говорила — то смеясь, то плача о себе, о Коле. Как вставали рано — на заре, отправлялись в поле, как собирали деньги для дома и бани, растили сыновей, а потом провожали их в армию и как она не находила места — очень переживала за старшего, потому как тот служить в Чечню угодил. Но, к счастью, все благополучно решилось.
А теперь сыновья женаты. Жены у них городские — хорошие, справные. Только вот, сокрушалась Прасковья, не больно снохи душевные. И сыновья, чудится ей, будто её сторонятся, стесняются. Внуков на каникулы не отдают — все больше в лагерь детский. А какое в лагере воспитание — все вокруг не свое, а казённое.
А здесь раздолье, речка, земля.
Улей в огороде поставила — чтобы и мед свой был.
И прежде, и сейчас, на старости лет, нет ей покоя…
И сарай надо бы укрепить — крыша совсем прохудилась…
А может, неплохо это — наоборот, хорошо, что нет ей ни дня передышки и что каждая копейка с болью и скрипом даётся… Придет с поля, очумелая от тяжёлой работы, упадёт до утра замертво. А иначе свихнулась бы она от тоски. Иначе все думки — про Колю…
Мы кипятили чайник, заваривали на чёрной смородине чай, разливали в большие красивые чашки. Глядь, чайник вновь становился порожним, и я снова бежала за водой мимо скучающего Бориски. Пёс во дворе не лаял, меня признавал. Лениво махая хвостом, приветствовал.
На улице замычали коровы. Прасковья встрепенулась:
— Ой, девоньки, кормилица Дуня пришла.
В село возвращалось стадо.
Она бросилась во двор открывать ворота.
Мы поднялись.
На пороге я оглянулась. Посмотрела на печку, на иконы в углу. Подумала… Постояла…
Вынула из сумки деньги — несколько хрустящих бумажек. Для меня эти купюры — сущая ерунда. А для Прасковьи — целое состояние. Но я помнила: мальчик на телеге деньги не взял — чуть не расплакался. Чувствовала, и Прасковья обидится.
Подошла к столу и подсунула деньги под скатерть. Будет стол убирать, наткнётся.
Ночью мне не спалось. Пекло спину. Я ворочалась на кровати, силясь уснуть. Перед глазами всплывали недавние картины: небо в крупный горох, тощая кляча. Петруша–блондин на высоком стогу, палисадник, утопающий в мальвах.
Я встала и зажгла лампу.
Всю ночь я писала: про кладбище и жаркое лето, маленький ручеёк у прогнившего мостика, про воздух и погреб морозный. И про Прасковью в длинном концертном платье.
Утром отправилась в редакцию газеты.
Прочитав статью, редактор откинулся в кресле. Посмотрел на меня внимательно, изучая. Вздохнул.
— Мы не можем это опубликовать… — выдавил, наконец.
— Почему?
— Не наш формат.
— А какой у вас формат?
— Мы пишем о достойных людях, которые реально что–то сделали для родного края. Передовики производства, труженики тыла. Ветераны. А здесь что? Что сделал этот ваш герой, как его… — Редактор искал фамилию в тексте. — Журавлёв… в глобальном, так сказать, общечеловеческом масштабе? Дом построил? Погреб вырыл? А его жена Прасковья? Сыновей вырастила? Пироги печёт? Да таких, как они, по всей матушке-России пруд пруди. В каждом доме! Что же, про всех писать?
Вот так! Надежда рухнула! Получается, я Прасковью обманула? Нет в газете места — даже маленькой колонки — для этих простых людей, живущих по–крестьянски тихо, неприметно. Потому как неформат? Я не могла с этим смириться!
— Но эти люди… неужели вы не видите их красоту? — Я заметила презрительный взгляд редактора. — Да вся их жизнь — подвиг! На таких Россия держится! — воскликнула от отчаянья пафосно.
Редактор усмехнулся.
— Что ж, совсем статья не годится? — спросила я тихо, опустив голову.
— Написано ярко, внятно. И язык образный. Про Бориску понравилось, у меня тоже собака, — взгляд редактора потеплел. — Но говорю же, не наш формат.
— А если за деньги?
— Что?
— Но есть же у вас отдел рекламы. — Я приободрилась, нащупав выход. — Давайте проведём эту статью по коммерческим расценкам.
Редактор задумался. Достал калькулятор, стал набивать цифры.
— Только чтобы ничего не вырезать! И про огород, про морковку… — Я уже диктовала условия.
Редактор позвонил кому–то. Через минуту в комнату вошёл сотрудник.
— Сергей Петрович! Что у нас в ближайшем номере?
— Выступление губернатора области — приветственное послание делегатам съезда, сводки с мест…
Редактор поморщился.
— Давай подсократи что–нибудь. Горячий материал в номер. — Он кинул на стол мои листы. — О скромных, красивых деревенских людях, неустанно творящих трудовой подвиг. Нам это в тему — в деревне уборочная страда начинается.
Мы вернулись в Москву.
Бешеным ритмом столица меня закрутила. Стёрлись краски, угасли впечатления.
Но однажды утром в квартире раздался звонок:
— Звонят из редакции. Вы статью нам писали.
— О! Очень приятно! — обрадовалась я. — Что — неформат?
— Нет, статья опубликована. И знаете ли, такой отклик. Слова благодарности… Одним словом, зацепило.
— Спасибо. Люди ж красивые, жаль — неформат… — Я горько усмехнулась.
— Вас разыскивает Журавлева Прасковья. Вы деньги у неё оставили. Наверное, уходя, обронили…