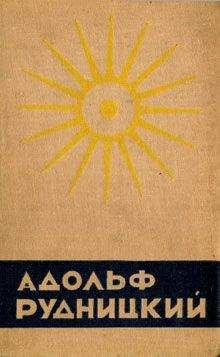Одно обстоятельство особенно действует мне на нервы. Вместе с нашими lazzaroni увивается возле туристов и Вацек Полляк. Наши lazzaroni знают кто несколько, кто дюжину слов на любом языке; Вацек Полляк тоже знает пару иностранных слов, но чаще пользуется изуродованной, исковерканной родной речью, очевидно полагая, что ломаный язык будет легче понять туристам. С помощью этих слов он рассказывает туристам удивительные вещи. Из рассказов следует, что в нашем городке сейчас находится ученый раввин-чудотворец, некогда известный, а теперь уже состарившийся, который чудесно поет старинные песни. Раввин этот якобы горит желанием дать концерт художественного слова, на котором он хочет исполнить несколько старинных песен специально для своих заморских братьев. Он мечтает посвятить им свой Последний Аккорд.
Рассказывая эти истории, Вацек Полляк, который снова стал выпивать, хватает собеседников за лацканы их тоненьких пиджаков и встряхивает как следует. Они, естественно, смеются, но малость робеют; зачем, спрашивается, хватать за грудки и трясти демократического человека? Далее, что за чудотворец раввин, о котором они ничего не слыхали ни от своих за границей, ни в Польше? Почему нет о нем ни слова в путеводителе? Наши жители, люди хитрые, смотрят на все это и неуважительно хихикают. А ведь мы, как известно, нуждаемся в валюте, и поэтому нельзя допускать излишнего хихиканья. Впервые Ясь Панек, мой начальник, который до сих пор пропускал мимо ушей все, что я говорил относительно гражданина Гольдберга, начинает смотреть другими глазами на это дело. Ясь Панек — человек мудрый, основательный, но чересчур осторожен и слишком большое значение придает демократии. Ему, конечно, обо всем докладывают! Ерунда! Никакой это не раввин-чудотворец, просто бухгалтер из маленького, никому не известного музыкального издательства. У раввина должна быть раввинша, а этот одинок как перст, и нет у него другой раввинши, кроме Вацека Полляка (или Хени, которая по-прежнему просиживает там целыми днями). У раввина должна быть большая или маленькая паства, а у этого один прихожанин — Вацек Полляк. И какой он раввин, если не имеет диплома, не занесен в список раввинов и не получает жалованья от государства? Если бы гражданин Гольдберг был раввином, то он, Ясь Панек, наверняка получил бы своевременно секретное сообщение.
Пьяный Вацек Полляк, безцеремонно хватающий туристов за грудки и вселяющий страх в их истерзанные сердца, — это явный подрыв пропаганды, вопиющий аргумент против нас всех, доказательство того, что все наши усилия оказались тщетными: где рос бурьян, там он и растет по-прежнему.
Итак, Ясь Панек понимает, что должен вмешаться, что это не только личное дело какого-то Древняка, от которого можно требовать соблюдения дисциплины, благо он находится на службе, что это дело не только какого-то Древняка, который дрожит при мысли, что Марийка бросит его.
Нет, это дело наконец стало нашим общим делом!
Мы сидим теперь втроем в отделении милиции — Ясь Панек, капрал Козел и я. Ясь Панек произносит следующие слова:
— В принципе дело по-прежнему остается несерьезным, и я сам толком не понимаю, зачем вмешиваюсь. Туристы пробудут у нас еще два дня. Что может случиться за эти два дня? Я не предвижу ничего плохого. То, что Вацек Полляк хотел высказать, уже высказал. Если туристы захотят навестить больного бухгалтера, — пожалуйста, пусть идут, это ведь в какой-то мере их священный долг. Почему наш Вацек Полляк должен один ухаживать за больным? Я узнал, например, что он даже фрукты покупает ему за собственные деньги. Но раз уж вы так настаиваете, то ты, Козел, если встретишь его на улице или на рынке, скажи ему, чтобы он зашел ко мне на минутку.
Поручения такого рода Ясь Панек обычно дает мне; Козел недавно из деревни и не годится для деликатных дел, но в данном случае я лицо слишком заинтересованное.
— А если я не встречу Вацека Полляка ни на рынке, ни в другом месте, идти мне туда, где он живет? — спрашивает Козел.
Вопрос настолько обескураживающий — Вацека Полляка почти всегда видишь на улице, — что мы оба, Ясь Панек и я, чувствуем себя так, словно нас вдруг громом поразило.
— Если не встретишь, то погоди немного, — говорит Ясь Панек.
— Ведь речь идет о спасении… гражданина Гольдберга, — вспыхиваю я. — В следующий раз он, чего доброго, окончательно загнется.
— Не валяй дурака, Древняк, — отвечает Ясь Панек».
«Час был не такой уж поздний, но, за исключением двух летних месяцев, жизнь в городке замирает рано, а люди чересчур примелькались друг другу, чтобы кому-нибудь приспичило в эту пору искать себе общество. Даже у себя редко кто засиживается допоздна. На рынке только в немногих окнах еще горел огонь. Из «Русалки» выходили последние посетители. Выйдя из здания милиции, я остановился; по рынку разносилась мелодия, которая, если не ошибаюсь, называется «Рай»; кто-то скрытый в темноте играл на трубе; песенка эта вот уже несколько месяцев у всех на устах. Вдруг захватило дух; в последнее время от любой мелодии у меня навертываются слезы на глаза. Не хватает только, чтобы меня увидели с увлажненными глазами: плачущий сержант милиции! Показалось, будто чья-то рука крепко стиснула мне сердце. Что-то так и подталкивало меня к колодцу; там стоял человек, игравший на трубе и слишком хорошо мне известный. Я быстро взглянул на знакомые окна; они были темны.
— Вацек Полляк, — сказал я, не испытывая уже никакого волнения. — Едва вышел из пансиона и снова ищешь туда дорогу?
— Это ты, Древняк?
— Так уж было там хорошо? Почему не даешь спать людям? Они спать хотят.
— Это ты, Древняк? Наша взяла!
Меня словно что-то хлестнуло по глазам.
— Я же их усыпляю, Древняк, пою им на сон грядущий. Знаешь ли ты, как называется эта песенка, которую я играл? «Рай», «Рай», Древняк! То, что потеряно тобою.
Я онемел.
— Я пою серенаду нашей любви.
— Обойдется, — ответил я с усилием; получил удар, не отрицаю. — Не буди людей, а то посажу, — добавил я уже увереннее.
— Не надо, Древняк, не надо, — снова нагло ответил он.
— Если не прекратишь, сведу в отделение, — ощущение слабости снова охватило меня.
— Уже не требуется! Впрочем, «спи спокойно», Древняк.
Он ушел в сторону костела.
Я чувствовал себя разбитым. Ничего еще не зная, я, собственно, знал уже все, предчувствовал… все.
Я быстро взглянул на дом, где жили родители Марийки — ее отец-часовщик держал мастерскую, — темно. Вокруг ни единой живой души, несколько тусклых фонарей — вот и вся жизнь на рынке. Я перешел площадь наискосок. Внезапно из-за угла показалась темная женская фигура. Я узнал Хеню, но прошел мимо. Потом, подумав, вернулся и спросил, что она делает здесь одна в такой поздний час. Несколько секунд Хеня не отвечала. При свете лампочки над дверями кооперативной лавки я увидел, что она возбуждена.
— Слыхала, как играл?
— Ты не знаешь, для кого он играл, — я заметил ее ироническую усмешку.
— Знаю, — неуверенно произнес я.
— Она вернулась, — сказала Хеня.
— Почему бы ей не вернуться, — ответил я. Каждое слово обжигало, как раскаленный уголь.
— Они уже виделись, — сказала Хеня.
— Почему бы им не видеться?
— Она даже призналась ему, что… с тобой не встречалась… — Я услышал ее издевательский, низкий смех. — Сказала, дескать, насчет тебя — это сплетни.
— Вольному — воля, — ответил я, чувствуя острие ножа в сердце.
— Ну и выдержка!
— А кому он должен был играть? — вдруг взорвало меня. Любой ценой надо было вернуть утерянное достоинство. — Ты ведь не из тех, в честь кого поют серенады!
Все кончено.
Я снова остался один во мраке. Зачем я сказал это ей, той, которой восхищаюсь, которая мне нравится, и кто знает — возможно, даже больше, чем нравится! Что и говорить, бедному человеку ветер всегда в лицо! Раз она страдала, так и я ей должен был еще добавить! Раз она стояла за углом и он истязал ее игрой на трубе, раз она стояла здесь и терзалась из-за него, должен был и я добавить ей на сон грядущий. Да, но уже несколько дней я ходил как потерянный, подспудно предчувствуя все это. Ничего не знал в точности, а как будто все было известно. Перешептывания, взгляды, намеки — много ли надо, когда это касается главного (женщины в таких делах просто гении), вот отчего развинтились мои нервы.
С той минуты как я услышал трубу на рыночной площади, некоторые вещи стали окончательно проясняться: число улик, подозрений, уязвимых мест, деталей в последнее время значительно возросло!
Но всему подвела окончательный итог Хеня. Я должен был защищаться! Я должен был взять реванш! Я не мог не нанести удара этой прекрасной, печальной девушке, погубленной Вацеком Полляком; сколько таких прекрасных девушек с разбитым сердцем видишь вокруг! Она мне сказала: «Теперь нам ехать на одном возу, подай же мне руку, Древняк». Да за такие слова убить меня мало!