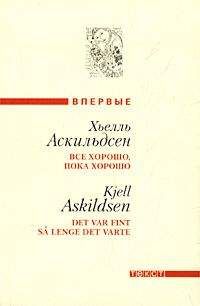Но после смекнул, что не запас еды, и махнул в магазин на углу.
Вернувшись домой, он опустил штору на одном из двух окон на улицу и зажег ночник у кровати. Возможно, его слабый свет был различим с улицы, но это довольно распространенная в наши дни практика: уезжая надолго, не оставлять квартиру совершенно темной. Больше меня здесь нет, опять подумал он и сел на кровати. Он чувствовал себя выжатым, он лег, накрылся одеялом и, пока сон не сковал его окончательно, успел подумать, что надо так перевесить записку, чтобы знать, прочитал ли ее Осмундсен.
Он проснулся от холода. Где он, что? Ночь, темень, времени десять минут шестого. Значит, он проспал почти двенадцать часов. Он разделся и лег в кровать по-человечески. Ему снилось, будто он посылает себе извещение, что Карл Ланге — во Франции, и наклеивает две марки: французскую и норвежскую. Тут он проснулся. И больше не уснул. Лежал и думал о вчерашнем припадке; теперь это казалось ему странным, с чего бы что-то его спровоцировало, а что, он не мог понять. Одно было ясно как Божий день: с той самой минуты, как Осмундсен назвал его подозреваемым, это абсурдное обвинение изменило, чтоб не сказать подчинило себе, всю его жизнь. До той минуты он считал себя относительно свободным и относительно самостоятельным индивидом, хотя и понимал, что общество влияет на него. Теперь у него было отчетливое чувство, что по воле другого человека, этого Осмундсена, он все время ставит себя в двусмысленные ситуации, а потом срывается как психопат.
* * *
Карл Ланге провел в изоляции два дня. Телефон звонил пять раз. Чуть чаще обычного. Конечно, это могла быть мама. Или один из детей. Или второй. Карл Ланге был уверен, что звонит Осмундсен.
Он много спал: принимал таблетки и чувствовал усталость. Пока он бодрствовал и особенно когда начинало клонить в сон, он вел долгие беседы с Осмундсеном. Поначалу говорил в основном он сам: он обвинял Осмундсена в посягательствах на его личность и достоинство. Постепенно Осмундсен тоже разговорился и стал позволять себе замечания, от которых Карл Ланге впадал в ярость. Однажды он заявил, что Ланге — кусок дерьма, вонючий клоп, паразитирующий на общественной терпимости. И что он, Осмундсен, будет счастлив раздавить такую мразь.
На третьи сутки, в воскресенье, он позвонил Осмундсену по домашнему номеру, думая, что тот дома. Осмундсен взял трубку:
— Да?
— Это Карл Ланге.
Короткая пауза и снова:
— Да?
— Я уезжал на пару дней.
— И что?
— Я хотел узнать, нет ли новостей. Может быть, вы меня искали.
— Искал?
— Не заводите меня!
— Спокойно, Ланге, спокойно. Вы думаете, это я вам звонил, пока вы уезжали?
— Что вы имеете в виду?
— Только давайте не будем строить из себя полнейших кретинов. Где, говорите, вы были — в Халлингдале?
— Я не говорил…
— Хорошо, Ланге. Закон позволяет врать все время вплоть до суда, и даже там обвиняемый имеет такую возможность. Не могли бы вы позвонить мне завтра, сейчас я опаздываю.
Карл Ланге молча шваркнул трубку на рычаг, сказать ему было нечего. Его унизили, высмеяли, выставили дураком. Сволочь, подумал он, и выматерился про себя.
Он принял две таблетки. Потом подумал: что я с собой делаю? А он со мной что вытворяет?
С полчаса, пока не начало действовать снотворное, он метался по квартире как бешеный. Потом обессилел и присел. Осмундсен знал, что я дома. Он все время знал это. И он всерьез считает меня насильником, даже после всех наших долгих бесед.
Он снова вскочил, вспомнил, что записка так и висит на двери, пошел сорвал ее, не проверив, разворачивал ли кто ее. «Где, говорите, вы были? В Халлингдале?»
Он выпил еще таблетку, он хотел заснуть, отключиться, хотя было только начало дня. Потом лег в кровать и стал придумывать, что он завтра скажет Осмундсену, но мысли расплывались и ускользали. Усталость накрыла его с головой, она накатывала тяжелыми волнами, и в них мелькало лицо Осмундсена, спокойное и серьезное.
Просыпался Карл Ланге мучительно. Сквозь дрему он видел сон: он стоит на леднике, у ног узкая расщелина, такая глубокая, что кажется бездонной. Секунда — и он бросится вниз, наконец-то он нашел место, где его тело вовек не найдут. Но вдруг его охватывает ужас: а куда он задевал записку, ту, где говорится, что в его смерти виноват сосед, что он давно угрожал убить его? Никому не придет в голову подумать на соседа, но убийца — он, написал Карл Ланге, а теперь вот боялся, что записку не прочтут, а без этого все теряет смысл: и то, что он похоронит себя в этой расщелине, и то, что тела его никогда не найдут. Но самым кошмарным, из-за чего он и проснулся, были его тщетные усилия вспомнить, куда он дел записку?
* * *
Было уже очень позднее утро. Ночной кошмар мучил его так, как если б это был не сон.
Не стану я ему звонить, решил он. Осмундсен ждет моего звонка, а я не позвоню.
Потом он подумал: а вдруг Осмундсен думает, что я буду рассуждать именно так?
Чуть позже он надел видавшую виды кожаную куртку, кепку и пошел в Полицейское управление. Он не чувствовал в себе никакой готовности, он не знал, ни что скажет, ни как. Но шел очень быстро.
Он назвался и объяснил, к кому пришел. Его попросили подождать. Еще бы, подумал он, это часть Осмундсеновой тактики, уж сегодня он меня помаринует. Поэтому когда через пару минут его пропустили внутрь, он почувствовал досаду. Все время он подлавливает меня, подумал Карл Ланге и чуть не повернул домой.
Осмундсен сидел за столом. Подчеркивает высоту своего положения, подумал Карл Ланге.
— Я вас ждал, — сказал Осмундсен.
— Еще бы. Вы никогда не ошибаетесь в своих ожиданиях, да?
— К сожалению, ошибаюсь.
— Понятно. Но вы не верите в мою виновность. И не верили с самого начала.
— И что? Только некоторые из подозреваемых оказываются преступниками, это мне известно. Выделить подозреваемых — это очертить круг. Он может быть шире или уже.
— Я попал в него по вашей воле.
— Вы немало потрудились для этого.
— Просто вам нужен был человек, подходящий под эти, как у вас выражаются, особые приметы.
— Ошибаетесь. Первый раз я приезжал к вам, чтобы исключить вас из числа подозреваемых. Но вы вели себя, как будто мы застигли вас врасплох, плюс вас не взволновало само преступление. И я не буду пересказывать вам все, что вы сделали потом, чтобы укрепить наши подозрения.
— Я действовал по обстоятельствам.
— При чем здесь обстоятельства? Человек или виноват, или нет.
— Я могу сказать иначе — вы заставляли меня так себя вести.
— Просто вы абсолютно не уверены в себе.
— Что у вас за привычка смешивать все в кучу! — взвился Карл Ланге. — Мы говорили совсем о другом.
— Нет, как раз об этом. Хорошо, я выражусь яснее. Вы утверждаете, что вас заставляли совершать все эти необъяснимые поступки, включая вашу якобы поездку в Халлингдал. Тогда я отвечаю вам, что так реагировать может только полностью неуверенный в себе человек — при условии вашей, как вы утверждаете, невиновности. Я мог бы сказать и жестче. По-моему, вы мало себя знаете.
— Что за чушь!… Так, теперь вы добавили к моим грехам неуверенность в себе и то, что я сам себя не знаю. Следующим будет неадекватное поведение.
Карл Ланге встал; его распирало от злости, и, прежде, чем он успел остановить себя, он перегнулся через стол и плюнул в Осмундсена. К счастью, он попал не в лицо, а в грудь. Едва до Карла Ланге дошло, что он сделал, он в ужасе отпрянул назад. Открыл рот, но не нашел слов выразить свой жгучий стыд.
Осмундсен сидел неподвижно, как ледяная скульптура. Потом он достал платок, вытер лицо и стер плевок со свитера. Он посмотрел на Карла Ланге странно, задумчиво, что ли.
— Я… — сказал Карл Ланге и запнулся.
Осмундсен молча швырнул носовой платок на пол рядом со стулом.
— Я потерял голову, — сказал Карл Ланге. — Я прошу прощения.
Осмундсен едва заметно кивнул; Карл Ланге не понял, что это значит.
— Вы, конечно, понимаете, что это карается по закону.
Карл Ланге промолчал; эта сторона вопроса не интересовала его нисколько.
— Сядьте, — сказал Осмундсен.
— Я предпочитаю стоять.
— А я предпочитаю, чтоб вы сели.
Карл Ланге остался стоять.
— Хорошо, как вам угодно. На ваше счастье, мы были вдвоем.
— Я не собираюсь отпираться.
— Хорошо.
Осмундсен замолчал; повисла долгая пауза. Стыд, что позволил себе такой мало интеллигентный поступок, прошел, теперь Карл Ланге жалел, что не последовал совету Осмундсена, не сел. Лучше б я дал ему в пятак, чем плеваться, подумал он. А как бы я до него добрался через стол? Вот и пришлось плеваться.
— Так. Что-нибудь еще? — сказал Осмундсен.
Карл Ланге обмер. Нет, подумал он, больше ничего.
— Все.
Карл Ланге повернулся и пошел, он едва сдержал усмешку. Но пока он выбирался по коридорам Полицейского управления, губы раздвинулись в улыбку. А снаружи, там было серо и промозгло, он зашелся в хохоте, еще беззвучном, но уже почти слышном. Здорово я плюнул ему в рожу, вспоминал он, млея от восторга, так и надо было, прямо в Полицейском управлении, первый раз в жизни преступил закон — и так в точку, поделом ему.