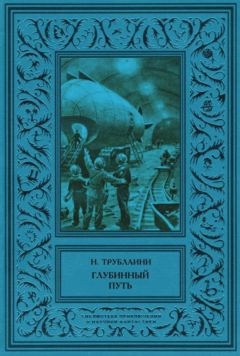Вся Одесса — а она вся была в этот день на толчке, весь город, подогретый слухами о шприцах — кинулась к воротам.
Американцы не знают, что такое давка, скажешь ему Jam, он подумает в первую очередь про варенье и лишь с пятого раза дотумкает, что мы имеем в виду. А у нас давка с 1917 года, и она была везде: в магазинах, где что-то "давали", на вокзалах, в трамваях и троллейбусах. Короче, это не варенье, это наоборот…
Так весь толчок кинулся к воротам.
Словом это не передать — для того и существуют живописцы, как Крамской, чтобы красками донести то, что уже никто не может рассказать, даже очевидец.
— Дядя Миша, вы тоже были в этот день на толчке?
— Разве б я стал рассказывать с чужих слов? Был. И даже помню, что делал в то время. Это тоже была картинка! Я тогда остановился у патефона — сейчас никто уже не знает, что это такое. Будем говорить, что это плеер, только раз в 20 больше и заводится ручкой… На нем поставили пластинку, старую, еще довоенную, накрутили ручку — пластинка заиграла. Пел Утесов, и как раз ту песню, что больше всех нравилась товарищу Сталину: "С одесского кичмана сбежали два уркана…" И только он ее запел, как подошли двое — в точности с виду, как те, что сбежали с кичмана. Подошли, пригорюнились, стали вздыхать: "Хорошё поёть, душевно поёть…". Я стою — мне интересно. И тут крик, и всех понесло, как наводнением. А любителей музыки как ветром сдуло.
Так вот, "паника" — то тоже всего лишь слово, и что оно стоит по сравнению с одесским толчком в 12 десять в начале того октября? Одно слово я все же скажу. Это было похоже на мясорубку: вы в нее суете куски мяса, крутите, а с другой стороны выходит фарш…
Люди кидали все — и то, что продавали, и то, что купили — и давились в воротах. Жизнь — она дороже тряпок, пропади они пропадом! А воры — те хватали брошенное и перекидывали через забор — шубы, чернобурки, ковры, костюмы, обувь… Что было за забором, кто там подбирал вещи, куда девал, я не видел.
Что вам сказать — Одесса после целый год рассказывала об этом кошмаре, ведь там были и затоптанные, и раненые. А то, что люди потеряли вещи?
— Дядя Миша, а как вы уцелели в этой мясорубке? — спросил я у малорослого и щупленького моего собеседника.
— Я? — ответил он и, глядя на меня, почему-то хитро сощурился. — Я тогда был такой худой, что когда крикнули "Колют!", подумал себе: "Что мне бежать? В меня ни за что не попадут — промахнутся!" И я остался стоять возле патефона. Песня кончилась, пластинка покрутилась впустую, а потом и завод вышел. Вот и все.
— Вы таки ответственный человек, — как всегда неожиданно начал дядя Миша.
— Это почему? — осторожно осведомился я.
— Я вам ни разу не предложил рассказать что-нибудь самому, а вы и не пытаетесь. И не обижаетесь за свою молчанку.
— Ну…
— Я вам объясню, почему вы помалкиваете.
— Очень интересно…
— Так вот… — Объясняя свои замысловатые ходы, дядя Миша всякий раз раскладывал передо мной теорему, в конце которой звучало школьное "Что и следовало доказать".
— Слушаю, дядя Миша.
— Вы молчите, потому что я не даю вам сказать ни слова? Вовсе нет! Я тоже всю жизнь слушал. И смотрел. И столько я насмотрел и наслушал, что меня переполнило. Если меня сейчас закрыть, я взорвусь — и будет Везувий в самом разгаре. А парк Кольберта и вообще Нью Йорк — Помпеи. И вы это понимаете и не хотите, чтобы были еще одни Помпеи, и слушаете меня, будто я Папа Римский. Вы себя считаете ответственным за судьбу Нью Йорка и сидите со мной рядом, словно вы опять на работе.
"Что это было?" — могут спросить потом, когда вокруг будут одни обломки. "Это взорвался дядя Миша, которому заткнули фонтан".
— Ка-ха! — кашлянул я, чувствуя себя скорее, как на уроке, чем в парке на скамейке.
— Другое дело, что когда я смотрел и слушал, я выбирал. Плохое в меня тоже попадало, но зачем мне копить холестерол? Я все время промывал сосуды чем-то хорошим. Как коньяк. Почему коньяк? Один опытный врач посоветовал мне ради здоровья принимать коньяк — трижды в день по столовой ложке. Тогда, сказал он, вы проживете жизнь. Так на коньяк у меня не хватало денег, и я нашел ему замену…
Короче говоря, у меня есть для вас картинка, которая промывает мозги даже лучше, чем коньяк. Но может быть, я ошибаюсь. Как вы относитесь к коньяку?
— Положительно.
— Тогда слушайте…
У меня несколько специальностей, и какое-то время я работал электриком. В одном спортивном зале — когда-то там была знаменитая хоральная синагога. Это на Еврейской улице (при советах — Бебеля), угол Ришельевской (при советах — Ленина). В здании сделали ремонт, после ремонта я проверял проводку, пробки, розетки, штепсели… И в то время, когда зал был еще в простое, в нем тренировалась, по договору с завхозом, одна интересная пара…
Валера Вассерман (потом Кузнецов, он суржик[3])… Пока я кроцался в этом спортивном зале, я многое о нем узнал. И чем дальше я узнавал, — хотя иногда меня и било током, — тем было мне интереснее. Бывает такое? Я вам скажу: бывает. Это когда человек без дна.
Как рассказать о человеке без дна, если вы не Лев Толстой и не Достоевский? Нужно просто начать с какого-то события, а на остальное закрыть глаза.
Так вот: Валера проработал два года во всесоюзном цирке (акробатическая пара, он и жена) и вернулся в Одессу. К нему — еще одному прославившемуся на весь Союз одесситу, началось паломничество. Главные паломники были гимнасты и акробаты, которым Валера "ставил номера", чтобы и они прославили Одессу. Вторые были — поэты…
Тут нужно сказать слова, без которых нельзя. Насколько я понял в том спортивном зале за целый почти месяц, стихи в Одессе пишут все. Парикмахеры, банщики, слесаря из домоуправления, бомжи, милиционеры, продавцы из овощных магазинов, дворники… Такова Одесса. Если мир, говорят, стоит на черепахе, то Одесса, вполне возможно, держится на рояле…
Стихи — это один из самых верных способов прославиться. Сперва на всю Одессу, потом на весь Союз, а потом и на весь мир. Другое дело, что они получаются у одного-двух на тот же мир и всего лишь раз в столетие, а то и в два…
Еще одна возможность получить лавры при жизни — положить стихи на музыку. Тогда какую-нибудь строчку, вроде "Ах, я дерево, дерево, дерево…", станет повторять за тобой вся страна целый год. И ты уже как в лесу…
Валера играл на фортепиано и на гитаре и сочинял музыку на стихи — и к нему толпой валили поэты. И домой, и в бывшую синагогу. Он читал их, сидя на кипе спортивных матов, пока его напарник по номеру курил, отдыхая в уголочке, анашу или как ее тогда называли "планчик".
(А я сидел на стремянке на самом верху, делал вид, что чиню проводку, — хотя кто замечает электрика? — и только мотал головой, когда до меня долетали чудные словечки снизу. После я их тоже слышал на одесских перекрестках, но не всегда знал перевод на русский…).
Это ничего, что я вам рассказываю не об Утесове и не о Миле Гилельсе, который тоже из Одессы? Что делать! Бог-фармацевт знает, кому сколько отвесить таланта… А может, Он бросает этот слиток наугад, в толпу — кому попадет? Он таки бросил, попал в Валеру Вассермана-Кузнецова, в его кудрявую голову, — но не слитком на этот раз, а горстью золотого песка, и тот не знал, за какую песчинку, за какой свой свой талант хвататься.
Так я не о Миле Гилельсе, о котором все знают всё, я о тех, кто еще не известен, но тоже жил и имел свой кусочек славы
Напарник Валеры менее интересен. Его звали Виля Гиличинский. Крупный тридцатилетний мужик. Он отсидел шесть лет в лагере за групповой грабеж и вышел оттуда с неплохим знанием английского языка, потому что его соседом по нарам был английский шпион. Виля курил планчик и иногда ширялся[4] на "малине" на Мясоедовской (после — Шолом Алейхема). Валера тогда тоже покуривал, на этом они и сошлись.
У Валеры было золотое сердце, он задумал спасти Вилю от наркомании и решил приспособить его к делу. Он сочинил цирковой номер, где будет задействован и анашист Виля Гиличинский, тоже играющий на гитаре.
Они этот номер репетировали в простойном спортивном зале, оба были в затрапезных штанах и майках; в перерывах, сидя на матах, Валера читал стихи одесских поэтов и говорил кому-то (я запомнил): "С точки зрения с техни-спихни-с толкалогической, образов у тебя в стихах нет" (не знаю, что это такое), а Виля покрикивал им из своего уголочка: "We live in the country оf the slave's! Откуда, салажата, произошло всенародное слово "хавать"? Где вам знать, сосунки! Я вам про это скажу! От английского глагола "to have". Вот учит меня сосед-диверсант с нижней конки: скажи, мол, "I have my dinner". Я говорю: "Ну, это… хаваю, значит, мою баланду…" "I have! — он сердится. — Пишется по-русски ха-вэ! И какая баланда? Dinner! — он кричит. — Dinner! Dinner!" Я ему в ответ: "Хавэ, а я что говорю? Хаваю. А на обед у нас не стэйк, пентагоновский ты хмырь, а как раз баланда…В общем, все лажа, ребятишки, главное — не забыть вовремя зашабить[5]!"

![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](https://cdn.my-library.info/books/130171/130171.jpg)