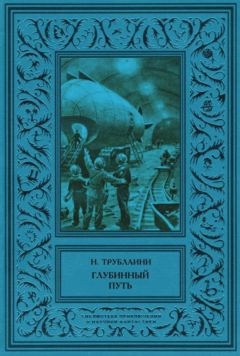Ко мне они привыкли и меня не замечали.
Этого номера так никто и не видел — только я, он был уникален, но в первобытном своем варианте, а не в том, каким он бы выглядел в цирке. В цирке он бы выглядел просто: шикарные костюмы, отрепетированные до блеска движения, продажа[6]…
Зрелищем я должен поделиться, это как раз та столовая ложка коньяку, которую нужно принимать три раза в день.
Три раза? В следующий раз я вам расскажу притчу о том, как Чайник и Кукушка-часы спорили о Смысле Жизни — это будет вторая ложка…
Так вот: я тогда куда-то вышел, а когда вернулся…
"Номер" я увидел такой… Партнеры стояли "голова в голову": то есть Валера держался в стойке на макушке (через "бублик"[7]) напарника и балансировал ногами. Верхнего поддерживал "лонж"[8] (на конце лонжа висела, тоже болтая ногами, беременная его жена Валюха), но все равно от Валериной тяжести планакеша[9] Вилю перекосило — скажем, как резиновую куклу под рукой младенца…
Дядя Миша, разойдясь в рассказе, иногда говорил как по писаному.
— Вилина рожа, и без того дьявольская, разъехалась, как пластилиновая, и ходила вдобавок от непривычного напряжения ходуном, а глазами он ворочал, будто его поджаривали на костре. Валеру на таком шатком нижнем, понятно, мотало…
— Как повешенного на ветру, — подхватил я сказ дяди Миши.
— Вы как будто это подсмотрели, — похвалил меня старик. — Но вы не видели всего. Оба "циркача" держали гитары, били кое-как по струнам и пели гнусавыми, как полагалось тогдашним наркоманам, голосами первую попавшуюся по руку песню, наверняка Вилину:
Когда я чалился на зоне,
Где ветер режет, как монгол…
Минута… другая… Я тогда понял, что второго такого зрелища за свою жизнь я больше не увижу.
Старик тут замолчал, а я подумал: "Это было, верно, то, что должно было стать цирковым номером, это выглядело бы на манеже в конце концов красиво и были бы аплодисменты… но что делать — наверно, искусство (книжные страницы, холсты художников, скульптуры, даже музыка) иногда так и рождается — в страшных и порой уродливых муках, у которых нет даже свидетелей…"
— Минута… другая… — продолжил дядя Миша. — Валюха не выдержала и отпустила конец лонжа — пирамида посыпалась: Валера рухнул на пол, держа гитару над собой, Виля сел… Помотал головой.
— "Вы что, ребята, — сказал, — это же slave's work! Пора хватануть дури, есть у меня заначенный баш[10]…"
— Скажу вам: циркового номера у этой пары не получилось — Виля зачастил на "малину" на Мясоедовской, где снабжали дурью[11], и спортивную форму окончательно потерял, Валюха родила, начались пеленки… — дядя Миша махнул рукой и на несколько минут замолчал. Потом продолжил:
— Я вам говорил, что Валера человек без дна? Что он человек, которого Бог осыпал золотым песком, и от этого мой одессит только чешется? Через какое-то время я увидел его в зоопарке, куда ходил с сыном, дрессировщиком льва. После он играл по вечерам в ресторане на пианино и аккомпанировал даже Высоцкому. Тот зашел поужинать, а публика подняла его к микрофону. А остановился он знаете на чем? И даже не остановился — наоборот. Он наконец полетел, о чем, может быть, мечтал всю жизнь. Он полетел под парусом. Валера в какую-то хорошую минуту глянул на яхту, загорелся, освоил парусное дело, купил "дубок" и стал ходить по Черному морю от Одессы до Батуми. И отрастил пиратскую бороду. И воевал на своей скорлупке со штормами. И тонул. И орал, как скаженый, когда удавалось выровнять страшенный крен дубка, когда парус был уже в воде. И пил потом вино в кабачке поселка Новый Свет между горами-утесами Орел и Сокол, куда он пристал после шторма…
Один из его почитателей, не знаю, акробат или поэт, Стасик Рассадин, сказал о нем, что Валера из своих хобби сделал профессии.
Бывшая "верхняя" акробатка, тоненькая, как спичка, его жена располнела, сидела дома и выращивала детишек…
Из-за Валериной прекрасной безалаберности дубок у него скоро отобрали пограничники, но и тогда он не отчаялся и стал наниматься к "новым русским" капитаном яхты и с ними побывал даже в Средиземном море.
Валера был знаменит на всю… Москву (в Одессе, кроме него, знамениты все). Писатели, что приезжали в Одессу на отдых, так или иначе узнавали про него, и на Валеру ходили, как на концерт. Что там по сравнению с ним филармония или тот же Привоз! Он представал перед именитым гостем во всей красе: тельник, борода, заразительное ржание — а говорил он одновременно на пяти, примерно, языках — одесситов, циркачей, музыкантов, наркоманов и парусников, искусно сплетая все говоры в один гибкий канат и присыпая его словечками, каких не найдешь ни в одном словаре. Писатели, слушая его, хватались за голову — о таком языке можно было только мечтать… но как овладеть им, не поработав два года цирковым акробатом? Не подержав стойку на голове отпетого наркомана Вили Гиличинского? Не посидев тапером в одесском ресторане годика этак три? Не походив на собственном дубке с командой похожих на него матросов от Одессы до Батуми?
Что вам сказать! — Дядя Миша обычно заканчивал свой рассказ именно этой фразой. — Господь осыпал голову этого человека золотым песком…
Один поэт из его компании — из тех, что приносили ему стихи, чтобы Валера написал на них песенную музыку, он таки получился — этот поэт сказал как-то про него, что тот ни в чем не состоялся.
А я думаю, что тот поэт, привязанный к своему стулу и к своей небольшой славе, которая, как флажок, зависит от ветра, это он не состоялся. Валера же — счастливый человек. Тот песок, что когда-то осыпался на него, он выбрал весь, не оставил ни песчинки.
Ну, может, еще пять-шесть искрятся в его поседевшей голове. Я слышал, что Валера пишет сейчас совсем неплохие рассказы. Ему есть о чем писать!
А теперь скажите честно, что вам интереснее слушать — мой рассказ про Валеру или если бы я полчаса жаловался вам на свой артрит? Нет, только честно!
Вместе с дядей Мишей мы составили после словарик слов, которые он услышал, сидя на стремянке. Вот он.
Планакеш — курильщик анаши, планчика.
Шабить — курить "травку".
Ширяться — колоться наркотиком.
Продажа — раскланивание циркового артиста после окончания номера.
Бублик — сшитый в форме бублика матерчатый, туго набитый ватой "буфер" на голове "нижнего" акробата.
Лонж — страховочный и тренировочный пояс у гимнастов и циркачей.
Баш — одноразовая порция анаши, скатанной в шарик.
Дурь — анаша. На Мясоедовской была "хата", "хаза", где можно было получить любой наркотик или ширануться.
— Циля была очень красивой женщиной. Когда она входила в наш двор, весь двор вываливался из своих берлог, чтобы на нее поглазеть — я имею в виду мужчин, которых жены тащили назад за подтяжки. Но и те, увидав Цилю, застывали на месте.
Она шла медленно, и нельзя было даже подумать, что эта женщина может ходить быстрее; на ней было зеленое платье, и платье было надето на то, что, может быть, лучше платья, и платье не стеснялось в этом признаться…
Конечно, у Цили были зеленые глаза, на ее запястьях были зеленые браслеты, а в ушах — зеленые камни. Когда она входила во двор, всем, кого тянули назад за подтяжки, казалось, что это идет виноградный куст, где под листьями качаются спелые гроздья…
Тут дядя Миша, который говорил сегодня, как библейский поэт, сделал передышку. Мы сидели у меня дома, детей над головой стали уже водить в садик, было тихо.
— После Цили, — продолжил, сделав глубокий вдох, старик, — во дворе появлялся ее муж, Сеня. Он тоже походил на виноградный куст, но только на тот, что уже облетел и со снятым урожаем. Что у него оставалось от пышного лета — очки. Кроме того, он был маленького роста.
От Цили исходило сияние, как от самовара; Сеня был похож на серую тень Цилиной руки, сам же он тени почти не отбрасывал.
Как они нашли друг друга — это среди мировых загадок. Кажется, Сеня был такой умный, что посчитал свой ум равным Цилиной красоте. Или их родители дружили с детства и поженили их — есть в жизни и такой вариант странных браков.
Сеня обычно шел позади своей жены, чтобы не нарушать гармонию. Он знал, что думают про него люди, когда видят их рядом. Он умел читать в чужих глазах и поэтому всегда шел позади. Так он походил на виноградаря, который обихаживает куст и снимает с него урожай.
Когда Циля выходила с нашего двора, на это зрелище тоже собирались все. Все качали головой и цокали языком. А после уходили домой, в свои берлоги, озабоченные, словно кто-то предложил им помолодеть на 30 лет, и они должны хорошо это обмыслить.
— Уф! — сказал дядя Миша, окончив этот длинный период, и взялся растирать лоб. — Уф!.. Теперь я могу перейти к делу. Но то, что я сказал о Циле, я должен был сказать. Не сделай я этого, не скажи я о красивой женщине, что она красивая, не воздай ей по заслугам — как рассказчик я не заслуживал бы доверия. Я, не дай бог, выглядел бы человеком с отклонениями или таким, что всё ставит с ног на голову и поэтому считается оригиналом. Не дай бог!

![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](https://cdn.my-library.info/books/130171/130171.jpg)