Ему было плохо — очень болело в боку и трудно было дышать. Он всё время шевелил плечами, пытаясь сбросить с себя какую-то непонятную, давившую его тяжесть, но не доставало сил, и тяжесть продолжала его давить — мучительно и непрерывно. Он лежал, вернее, висел зажатый меж двух плетней и замерзал недвижимый, раздетый. Его бил озноб, а он тщетно пытался с ним совладать. Мороз безжалостными иглами впивался в тело — от него зашлось бедро, закоченели скрюченные пальцы. Перед глазами от дыхания трепетала тонкая плёнка лопнувшей на жердине коры. То затихая, то вновь заполняя собою всё пространство, носились над станицей крики, вопли, выстрелы. Раздираемый страхом и коченеющий Тимофеев корчился на боку в узком пространстве между плетнями. Под его затёкшим плечом чуть подтаял, а теперь смёрзся с гимнастёркой снег. Ему так хотелось завыть, закричать, позвать на помощь людей, открыть им глаза на подступающую к нему ужасную смерть. Ведь люди же они! И он человек. Но что толку было кричать, ведь кругом были враги, одни враги, жаждущие отнять его жизнь. И лишённый способности шевельнуться, он горячечно метался в мыслях в поисках какой-нибудь возможности спастись. Но, кажется, выхода не было, лишь нестерпимая боль и обида на несправедливость судьбы. По всей видимости, теперь для него начинался другой отсчёт времени, которым он не распоряжался. Наоборот, время стало распоряжаться им, и ему лишь оставалось покориться его немилосердному ходу.
Его искали. Озлобленно, остервенело лаялись казаки, шныряя по дворам. И это прибавляло в нём решимости. Он им нужен живой или мёртвый. Иначе они не смогут успокоиться, иначе они не смогут замести следы своего страшного преступления. Значит…. Значит, будет лучше, если они его не найдут. Ему надо умереть здесь. Так будет лучше для него самого, для тех, кто придёт мстить. Новый поворот в его сознании осветил всё другим светом, придал новое направление всем его помыслам, по-иному перестроил его намерения. Он притих, весь собрался, сосредоточился на своей новой цели…
Запнувшись о распластанный на крыльце, коченеющий труп, из избы вырвалась наспех одетая простоволосая женщина с винтовкой в руках, задыхающаяся в бормотании: "Господи Боже мой, Господи…" Отбежав от ворот, остановилась, дико озираясь. Станица была темна, не светилось ни одно окно, лишь свежеумытая луна щедро лила на снега свой холодный свет. По дворам шныряли чьи-то тени, верховые пересекали улицу и истошно заходились собаки. Женщина издала стон и, прижимая тяжёлую винтовку, бросилась прочь от дома в незапахнутой шубейке, в валенках на босу ногу: "Боже мой! Боже мой!" Она миновала не мало дворов и толкнула покосившуюся калитку, протрусила широким, заметенным двором, забарабанила в оконце ветхой, каким-то чудом удерживающей глубоко прогнувшуюся крышу, избёнки. Окно, помешкав, затеплилось. Женщина метнулась к низенькой двери. Переступив порог, с грохотом бросила на пол винтовку. Бабка Рысиха смотрела на неё совсем не сонно, недобро, без удивления.
— Приезжих убива — а - а — ют, — заголосила женщина, — и Васька-то ружьё схватил!
Она надсадно тянула худую шею в сторону старухи, сквозь волосы запутавшие лицо обжигали глаза. Ворожея оставалась неподвижной — телогрейка наброшена на костлявые плечи поверх ночной рубахи, босые уродливые, с узлами вен ноги, жидкие, тускло-серые космы, с жёсткими морщинами деревянное лицо, взгляд спокойный, недоброжелательный.
— Маманя — а! Васька же… Приезжих… Ружьё схватил!
Лёгкое движение всклоченной головой — понимаю, мол — скользкий взгляд на винтовку, затем осторожно, чтобы не упала с плеча телогрейка, ворожея подняла руку, перекрестилась и произнесла торжественно:
— Геенна им огненная! Достукались анафемы…
Всем телом женщина дёрнулась, вцепилась обеими руками себе в горло, опустилась на пол, горестно раскачиваясь всем корпусом.
— Вы…вы! Что вы за люди! Господи, Боже мой! Ка — амни — и! Ка — амни! Ты никого не жалеешь, и он… он никого не пощадит. Хотел убить. А потом — потом распла — ата. Камни вы бесчувственные.
Ворожея хмуро смотрела, как казнится и причитает сноха.
— Страшно! Страшно среди вас!
— Ну, хватя слёзы лить. Дитёв-то на кого бросила, скажённая?
Тяжело ступая усталыми ногами по неровным массивным половицам, Рысиха подошла к лавке у печи, зачерпнула в ковш воды, заглянула, пошепталась и подала снохе:
— Пей, не воротись. Криком-то не спасёшься.
Женщина, стуча зубами о ковш, громко глотнула раз, другой — обмякла, тоскливо уставившись сквозь стену.
— Дивишься — слёз не лью? Они у меня все раньше пролиты, на теперь-то не осталось.
Через несколько минут старуха была одета — сморщенное лицо по самые глаза упрятано в толстую шаль, ветхая шубейка перепоясана ремешком.
— Посиди пока-тко. А как оклемаешься, иди к ребяткам. Пойду и я, догляжу.
По пути к двери задержалась у винтовки
— Чего с этим-то прибегла?
Женщина тоскливо смотрела в невидимую даль и не отвечала.
— Ружьё-то, эй, спрашиваю, чего притащила?
Вяло шевельнувшись, женщина ответила
— У Васьки выхватила. Ведь он чуть не убил одного, молоденького самого. А другой на крыльце порубанный…
Старуха о чём-то задумалась над винтовкой, тряхнула закутанной головой, отгоняя мысли прочь:
— Всех ба надо.
В темноте копошилась какая-то тень и напугала лагутинского казака Калёнова. Он вскинул винтовку, но, приглядевшись, крикнул:
Фу!.. Чертовщина. Что ты бродишь среди ночи, старая?
— Испужался, казак?
— Ладно испугался, пальнуть бы мог.
— А и пальни. Да не в меня. Иди-к сюда. Видишь, вон меж плетней темнеет?
— Да чтоб оно провалилось, что там можа темнеть?
— Не бойся, иди сюда.
— Чтоб тебе сгореть ясным огнём, — бранился немало перетрусивший казак. — Вот я его пулькой достану. Эй, ну-ка покажись!
Помедлив, потоптавшись, вытягивая шею в сторону пугающего чёрным пятном плетня, Калёнов вскинул приклад к плечу, прицелившись, бахнул. Эхо ответным выстрелом отскочило от стены бора.
Пуля впилась Тимофееву в спину и застряла внутри, обжигая задубевшее тело. С силой сжав зубы: "Только бы не закричать. Не выдать себя" — он конвульсивно напрягся, будто пытаясь разорвать на себе невидимые путы. Вдруг все боли разом оставили его. "Вот и конец мученьям", — подумал Тимофеев и умер.
Ещё не рассвело. Выстрелы, крики над станицей смолкли. Пластуны Лагутина развели на площади перед Советом костры и с помощью станичных стаскивали к ним порубанных рабочих и николаевских мужиков.
— Дак, говоришь, девятнадцать их было? — широко шагая по улице, спрашивал Лагутин поспешавшего за ним Парфёнова.
— Двое утекли, — сокрушался станичный старшина. — Ну, как до своих добегут…
— Не паникуй! Искать надо. Искать!
Довольный собой Лагутин был деятелен, прогнал на поиски жавшихся к кострам озябших казаков. Те побродили по дворам и гумнам, потыкали шашками в сено, разломав плетень, извлекли труп Тимофеева да вернулись к огню, сетуя, что "одного-таки чёрт прибрал". И вдруг…. Все головы повернулись в одну сторону, А оттуда из темноты:
— Иди, иди, сволочь!
В освещённый круг вошла, поражая своей неожиданностью, парящая на морозе, мокрая с головы до ног фигурка Гриши Богера. Он затравлено озирался испуганными глазами и дрожал всем телом. Мокрая одежда стремительно смерзалась и похрустывала при ходьбе.
— У проруб сховался, — всё никак не справляясь с охватившим его волнением, рассказывал казак. — Это каким манером вышло. До речки добёг, сиганул, змеёныш, в камышовый куст, проломил лёд и затих, одна лишь головёнка чернеет. Так бы и замёрз, жидёнок. Да на его счастье бабка та шустрая объявилась — указала.
— Пластай его, так растак! — подбежал маленький казачишка из местных с шашкою наголо.
— Постой!.. Погодь! — загомонили кругом. — Надоть атамана покликать.
Гриша Богер, стуча зубами, шамкая непослушными губами, заговорил вдруг:
— Мне б в тепло. Помру я здесь, а у меня мама…
Казаки стояли, поёживаясь от озноба, хмуро глядели. Кто-то сказал от костра:
— Сопляк совсем. Гляди, и шешнадцати нету.
Разом взорвались голоса:
— Нет, ну здорово! Как хлеб отымать — годов не считал. У него мамка, видите ли…. А у нас щенки под лавкой, которых и кормить не след….
Голоса всё более озлоблялись, возбуждаясь. Подходили станичные.
— Это хто ж такой?
— Вот утопленник ожил. Да что его жалеть…. Пластай!
Подошёл Лагутин. Мельком глянул на Гришу и, повернувшись, пошёл прочь, уронив:
— В расход.
— Пойдём, — преувеличенно строго сказали два казака.
— К-куда вы м-меня, — не попадая зубом на зуб, срывающимся голосом спросил Гриша Богер.
Трое пошли, и из темноты с тою же преувеличенной строгостью донеслось:

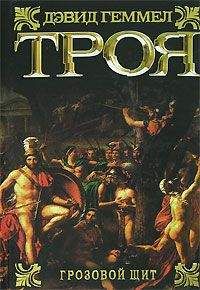
![Чарлз Робертс - В долинах Рингваака [Рыжий Лис]](https://cdn.my-library.info/books/25050/25050.jpg)
![Чарлз Робертс - В долинах Рингваака [Рыжий Лис]](https://cdn.my-library.info/books/23840/23840.jpg)
