— Ничего, ничего, потерпи — подъезжаем.
Иж-49 без дороги, целиной катил в райбольницу.
— Ну, ты, папаша, и удумал — разве ж можно роженицу на мотоцикле везти. Потерял бы вместе с ребёнком.
— Ничего, ничего, — суетился Егор, провожая жену в приёмный покой. — Доехали и, слава Богу.
— Ждите.
Егор присел на стул, откинул голову к стене, прикрыл глаза. Почувствовал, как неимоверно устал за эти годы мытарств на чужбине, если считать Петровку родиной. Прав ли он? Туда ли идёт и семью за собой тащит? Не проще было бы пойти к Пестрякову Пал Иванычу (он теперь первый в райкоме) и попросить какую-нибудь должностёнку. Можно и в райцентре. Может, и квартиру б дали. К чему кажилиться пупком, когда головой можно все проблемы решить?
И приснился Егору сон — голые задницы, нахально целясь в него, пихаются, друг дружку оттирают. Что за чертовщина! Он обошёл этот диковинный строй и удивился ещё больше — мужики, как свиньи, стоя на четвереньках, хватают ртами из корыта куски, хлебают бурду, торопятся набить брюхо и всё никак не могут. Ба, знакомые все лица! Назаров Василий Ермолаевич, петровский председатель — а как же без него в таком деле! Серафим Иванович Босой давится и ест, торопится, косится на соседей зло — брюхо друзей не терпит. Предисполкома здесь, районный прокурор. Эк, вас понагнало-то к кормушке! Вон Бородин кабановский суёт голову меж рук у Пестрякова — кореша. Давно ли стали?
— Место присматриваешь, брат?
Егор вздрогнул и оглянулся. Фёдор? Нет, не Фёдор — солдат, как исполин-памятник, в плащ-палатке, каске, с автоматом на груди. Лица не видно, а голос вроде братов.
— Фёдор? Ты? Живой?
— Жив, покуда помнят.
— Не знаешь, почему мужики-то голые?
— Народ их такими видит.
— Да, нет, люди кланяются им — они власть, они сила.
— Люди кланяются, а народ презирает. Народ — это память, это истина, это История. Хочешь, чтоб тебя таким запомнили?
— Что ты! — испугался Егор. — Хочу пинка дать под зад.
— Ну и дай.
Отпинать-то их всех не мешало, но начать стоило с Босого или Василия Ермолаевича, подумал Егор. Так, Назаров или Серафим Иваныч? Зашёл в тылы чавкающей компании. Чёрт, забыл, кто каким с какого края… Ну, тогда, на кого бог пошлёт! Разбежался, размахнулся крепкою ногой в яловом сапоге…
— Мужчина! Вы чегой-то распинались? Примите одежду…
Егор вздрогнул и проснулся. Немолодая пухленькая сестричка подала свёрток.
— Роды начались у вашей супруги — ждите, скоро результат будет.
— Не могу — ребёнок дома без присмотра.
— Ну, так поезжайте — своё дело вы уже сделали, теперь мы как-нибудь без вас.
Небо затянуло серой мглой. Когда Егор спрятал с крыши инструмент, собрал вскопанный картофель, закрапал дождь — не даром покойник во сне привиделся.
— Говорю, Фёдора во сне видал, пока в больнице сидел, — повторил Егор и окинул взором домочадцев.
Люся наигралась своими куклами и просила есть. Наталья Тимофеевна лежала с закрытыми глазами и открытым ртом. Так уж был сотворён её дыхательный процесс — вдыхала носом, а выдыхала ртом. Зато никогда не маялась горлом. Егор тревожить её не стал, но на всякий случай поднёс к губам пёрышко из подушки — оно затрепетало. Достал утку, расщипал её на кусочки в тарелку, поставил перед Люсей. В бульон сыпанул две горсти домашней лапши и необжаренный лук — так любил. Подкинул в печь.
За окном стало темней — дождь усилился. Егор разжёг керосиновую лампу. Люся поела и заклевала носом. Он сел на стул у изголовья кровати, позвал дочь. Та пристроилась на коленях, согрелась и засопела, уснув. Отец её тоже сомлел. Дважды вскидывал голову, отгоняя дремоту, а потом, не в силах бороться, пристроил её на дужку кровати.
Вздрогнул, проснувшись от Люсиного голоса:
— Баба. Баба.
Дочка одной ручкой тормошила его подбородок, пальчиком другой указывала на покойную. Почему покойную? Она жива. Она только что была жива. Но первый взгляд, просыпаясь, Егор бросил на лампу. Пламя колыхнулось — кто-то вышел ли, вошёл — хлопнув дверью. Дверь была на месте и недвижима. Душа отлетела, подумал Егор, и тогда назвал мать покойной.
Наталья Тимофеевна лежала всё в той же позе, но у открытого рта уже не трепетало пёрышко. Егор поднёс зеркальце для бритья, но и оно не затуманилось. Он взял её за руку.
— Мама, мама…
Потряс за плечо.
Егор поднял дочку на руки:
— Ты не боишься?
— Бабушка умерла, да?
— Да.
Белый больничный потолок отразил крик новорожденного, и Аннушка улыбнулась обескровленными губами.
— Вот мы какие голосистые, полюбуйтесь мамочка на сынка своего. Как назовёшь-то?
— Антоша… второй.
— Первый дома что ль? Папаша?
— Утонул.
— Ну, этот не утонет — вон, как бровки хмурит — сердится.
Завязав и обрезав пуповину, акушерка продемонстрировала ребёнка мамаше. Женщины улыбались.
А мне было зябко в этом лучшем из миров, больно от их процедур, и я сучил всеми конечностями, и вопил во всю силу своих маленьких лёгких.
п. Увельский 2007 г.

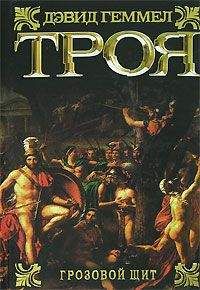
![Чарлз Робертс - В долинах Рингваака [Рыжий Лис]](https://cdn.my-library.info/books/25050/25050.jpg)
![Чарлз Робертс - В долинах Рингваака [Рыжий Лис]](https://cdn.my-library.info/books/23840/23840.jpg)
