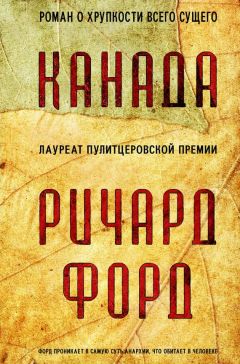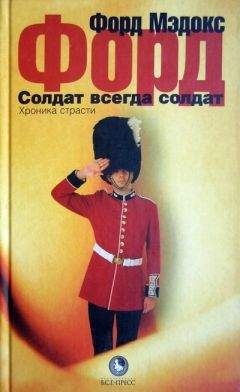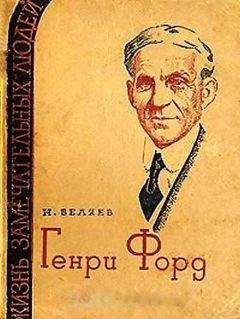К этому времени у Бернер стал портиться характер. После начальной школы мы с сестрой неизменно учились в разных классах, поскольку считалось нездоровым, когда двойняшки проводят вместе все время, — впрочем, мы всегда помогали друг дружке делать уроки и потому учились хорошо. Теперь она большую часть времени сидела в своей комнате, читала киножурналы, которые покупала в «Рексолле», и романы вроде «Пейтон-плейс» и «Здравствуй, грусть», которые тайком притаскивала домой, не говоря откуда. А кроме того, ухаживала за рыбкой в аквариуме и слушала радио. Подруг у Бернер не водилось — как и друзей у меня. Я был вполне доволен отдельной от нее жизнью, полной моих собственных интересов и размышлений о будущем. Близнецы разнояйцовые — она появилась на свет шестью минутами раньше меня, — мы с ней никаким сходством не обладали. Бернер была девочкой рослой, костлявой, неуклюжей и сплошь покрытой веснушками (да еще и левшой в отличие от меня), с бородавками на пальцах, с такими же, как у матери и у меня, светлыми серо-зелеными глазами, обилием прыщей, плоским лицом и скошенным подбородком — не красавица. У нее были красивые, как у нашего отца, жесткие каштановые волосы, которые она расчесывала на прямой пробор, на руках и ногах волоски практически не росли, а грудь, достойная сколько-нибудь серьезного разговора, отсутствовала, как и у мамы. Носила она обычно брюки и свитера, в которых выглядела шире, чем была. Иногда надевала, чтобы скрыть кисти рук, белые кружевные перчатки. Кроме того, ее донимала аллергия, и потому она носила в кармане карандашный ингалятор «Викс», да и комната Бернер насквозь пропахла «Виксом», — я слышал этот запах, еще только подходя к ее двери. На мой взгляд, сестра выглядела комбинацией наших родителей: рост отца, внешность матери. Иногда я ловил себя на том, что думаю о Бернер как о старшем брате. А иногда мне хотелось, чтобы она больше походила на меня, относилась ко мне получше, чтобы мы могли стать ближе. Другое дело, что мне походить на нее нисколько не хотелось.
Я же был пониже сестры, помиловиднее, прямые каштановые волосы расчесывал на косой пробор, кожу имел гладкую, почти лишенную прыщей, лицо «красивое», как у отца, но тонкое, как у мамы. Мне это нравилось, как нравилась и одежда, которую выбирала для меня мать, — брюки цвета хаки, чистые отглаженные рубашки и туфли «оксфорды» из каталога «Сирз». Родители говорили в шутку, что мы с Бернер произошли не то от почтальона, не то от молочника, что мы «недопеченные». Хотя я понимал, что имели они в виду только Бернер. В последние месяцы она обзавелась болезненным отношением к своей внешности, становилась все более и более недружелюбной, как если б за краткий срок что-то в ее жизни разладилось. В моей памяти сестра чуть ли не мгновенно обратилась из обычной, веснушчатой, смышленой и счастливой девочки с чудесной улыбкой и умением строить забавные гримасы, заставлявшие всех нас смеяться, в саркастичную, скептически настроенную девицу, искусно выискивавшую во мне недостатки, большая часть которых ее злила. Бернер даже имя ее и то не нравилось — в отличие от меня, я-то считал, что оно сообщает ей уникальность.
«Олдсмобили» отец продавал всего месяц, а потом попал в автомобильную аварию: столкнулся с ехавшей впереди машиной, потому что слишком разогнал свою демонстрационную модель, да еще и на авиабазе, где делать ему было решительно нечего. После этого он занялся продажей «доджей» и пригнал к дому прекрасный, коричнево-белый «коронет» с жестким верхом, с тем, что тогда называли «кнопочным управлением», с электрическими стеклоподъемниками, откидывающимися сиденьями, а также стильными крыльями, слепяще-красными задними габаритами и длинной, покачивающейся антенной. И эта машина тоже три недели простояла перед нашим домом. Мы с Бернер забирались в нее, слушали радио, а отец стал еще чаще вывозить нас на прогулки, — мы опускали стекла на всех четырех окнах, и в машину стремительно врывался ветер. Несколько раз отец заезжал с нами на «Тропу бутлегеров» и учил нас водить, показывал, как подавать задним ходом, как выкручивать руль, чтобы машину не занесло на льду. К сожалению, ни одного «доджа» продать ему не удалось, и он пришел к выводу, что в таком месте, как Грейт-Фолс — не шибко культурном провинциальном городе всего с пятьюдесятью тысячами жителей, кишащем скупыми шведами и подозрительного толка немцами, насчитывающем лишь малый процент денежных людей, которые могут захотеть потратиться на шикарную машину, — он занимается делом, пожалуй что, безнадежным. Отец уволился и нашел место продавца машин подержанных — на парковке рядом с авиабазой. Военным летчикам вечно не хватает денег, они то и дело разводятся, судятся и женятся снова, и попадают в тюрьму, и всегда нуждаются в наличных. Автомобили для них — своего рода валюта. И, став при них посредником, — положение, которое всегда было отцу по душе, — можно прилично зарабатывать. К тому же военным будет приятно иметь дело с бывшим офицером, который понимает их специфические проблемы и относится к ним не так, как прочие горожане.
Впрочем, и на этой работе отец надолго не задержался. Он успел раза два или три свозить меня и Бернер на свою парковку, показать, что там к чему. Делать на ней нам было нечего, только слоняться среди рядов машин, под норовившим разбить их вдребезги жарким ветром, хлопавшими флажками и гирляндами мигавших серебристых лампочек, посматривая между пропекавшимися под солнцем Монтаны капотами на шедшие от базы и к ней армейские грузовики. «Грейт-Фолс — город подержанных машин, а не новых, — говорил отец, стоявший, подбоченясь, на крылечке маленького деревянного офиса, в котором продавцы поджидали покупателей. — Для любого из здешних жителей новая машина — прямой путь в богадельню. Выезжая на ней из магазина, он становится беднее на тысячу долларов». Примерно в то же время — в конце июня — отец сообщил, что подумывает съездить машиной на Юг, посмотреть, как там и что, как идут дела у его «отсталых» земляков. Мама сказала: поезжай, но без меня и детей, — и отец разозлился. А она добавила, что даже приближаться к Алабаме не желает. Хватит с нее и Миссисипи. С евреями там обходятся хуже, чем с цветными, которых по крайней мере земляками считают. На ее взгляд, Монтана все-таки лучше, поскольку здесь никто не знает, что такое еврей, — на этом разговор и закончился. Порой мать относилась к своему еврейству как к бремени, порой — как к отличительному (приемлемому для нее) признаку. Однако хорошим во всех отношениях не считала его никогда. Бернер и я тоже не знали, что такое еврей, знали только, что наша мама еврейка, а по древнему закону формально это и нас обращало в евреев, что все-таки лучше, чем быть уроженцем Алабамы. Нам следует считать себя просто «не соблюдающими ритуалы» или «оторвавшимися от своих корней», говорила мама. То есть мы праздновали Рождество, День благодарения, Пасху и Четвертое июля, но в церковь не ходили, а синагоги в Грейт-Фолсе и вовсе не было. Когда-нибудь наше еврейство, возможно, и могло наполниться для нас смыслом, пока же таковой в нем отсутствовал.
Отец продавал подержанные машины в течение месяца, и это его утомило, и в один прекрасный день он сам купил такую — прямо на работе, обменяв наш «Меркурий» 52-го года на «шевроле Бель-Эр» 55-го. «Хорошая сделка». Он сказал, что договорился о переходе на новую работу — будет продавать землю под фермы и ранчо. Понимает он в этом мало чего, признал отец, но уже записался на курсы, которые читают в подвале здания Юношеской христианской ассоциации. В компании есть люди, которые ему помогут. Все-таки его отец работал сметчиком на лесном складе, значит, и он худо-бедно, а землю «чувствует». К тому же, когда в ноябре выберут Кеннеди, экономика поуспокоится, цены начнут падать и первое, чего захотят многие, — это приобрести землю. Здешней пока мало кто интересуется, говорил отец, даром что ее тут немерено. При продаже подержанных машин, как он выяснил, дилер получает самый что ни на есть жалкий процент от сделки. Непонятно, почему он оказался последним, кто об этом узнал. Вот в этом мать с ним согласилась.
Конечно, в ту пору мы не понимали этого, сестра и я, но оба наших родителя, должно быть, уже сообразили к тому времени, что отдаляться один от другого они начали примерно тогда, когда отец оставил военную службу и, предположительно, вышел в широкий мир, — осознали, что каждый из них смотрит на себя не так, как другой, и даже начали понимать, быть может, что различия между ними не стираются, но углубляются. Вся их перегруженная событиями, полная забот суматошливая жизнь — переезды с базы на базу, необходимость растить детей на ходу, — годы такой жизни позволяли обоим не обращать внимания на то, что им следовало бы заметить с самого начала, и вина за это лежала, пожалуй, более на маме, чем на отце: то, что казалось обоим мелочами, обращалось в нечто ей, по крайней мере, нисколько не нравившееся. Его оптимизм и ее отстраненный скепсис. Его южный темперамент и ее еврейство. Отсутствие образования у него и ее мания образованности, порождавшая в маме ощущение собственной недовершенности. Когда же они поняли все это (вернее, когда поняла она), что, опять-таки, произошло после того, как отец уволился из армии и изменилось само направление их движения вперед, каждого из них начали одолевать неудовлетворенность и дурные предчувствия, да только у каждого они были своими. (Все это зафиксировано в написанной матерью «хронике событий».) Если бы их жизнь следовала по пути, которым идут тысячи других жизней, — повседневному пути, ведущему к самому обычному расставанию, — мама могла бы просто забрать меня и Бернер, сесть с нами на поезд и поехать в Такому, где она родилась, или в Нью-Йорк, или в Лос-Анджелес. Произойди это, каждый из наших родителей получил бы возможность начать новую, достойную жизнь во внезапно распахнувшемся мире. Отец мог вернуться в авиацию, уход из которой дался ему нелегко. Мог жениться на другой женщине. Мама могла возвратиться — после нашего поступления в колледж — к учебе. Могла снова начать писать стихи, осуществляя давнее свое упование. Судьба могла сдать им карты получше.