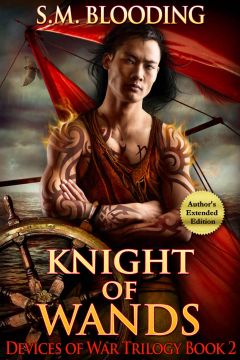— Поверни-ка голову, я нарисую тебя в три четверти. Ах, правда, ведь он же здесь, неизбежный Миландр! Я его уже больше не замечала. Покусывая свои карандаши, он в сотый раз пытался нарисовать мой портрет. Если не говорить о некоторых возможных вариантах, я, даже не глядя, хорошо представляла себе это выдающееся произведение искусства: голова анемичного ангела с соломенными волосами, розовыми губами типа «поцелуй меня, душечка» и синими неправдоподобными зрачками, упавшими на бумагу, как мыльные пузыри в белый соус. При мысли, что этот портрет просто выражает его характер, что он, сам того не сознавая, смеет навязывать мне лицо, отвечающее его собственным жалким вкусам, я почувствовала, как во мне проснулся демон доброго совета.
— Неужели же тебе совершенно нечего делать? Мне казалось, что ты получил заказ.
Прежде чем ответить, Люк вытащил изо рта сначала два карандаша, потом окурок.
— Заказ от книжного магазина с улицы дю Пон на почтовые открытки: сто экземпляров «Поздравляем с рождеством» с непременными атрибутами — омелой, остролистом и снегом! Тоже мне работа для художника!
— Тоже мне художник!
— Сегодня ты мила, как папаша Роко, — пробормотал Люк. — Кстати, твоего любезного соседа что-то совсем не видно. Забился в свою нору. Даже занавеска в окне не шевелится. У него кончились шпильки или его доконала неврастения?
— Оба они мастера на шпильки — что один, что другой! — заметила Матильда, бросая на меня неодобрительный взгляд.
Я чуть было не ответила: «Я колю только ослов», но вовремя прикусила язык, сохраняя во рту этот привкус скисшего молока, ласкового презрения, всегда отравлявшего мои отношения с Люком. Меня бесили жалкие претензии этого бедняги, неспособного на большие свершения и пренебрегающего малыми. Можно ли отказываться от полезного дела, даже если оно не сулит славы, даже если вся приносимая им слава состоит в том, что ты полезен в меру своих сил? Считываю же я то, что печатает тетя! Хорошенькое занятие для человека со степенью бакалавра.
Ворча, я возвращаюсь к чтению. Слово за словом сверяю пять экземпляров докторской диссертации, начиненной тяжеловесными специальными терминами: «При рентгеноскопии обнаруживается легкое затемнение под ключицами. Налицо небольшой фибирозный канал…» Нет, надо «фиброзный». «Затемнения в легких (маленькие коверны)…» Нет, каверны. И так страница за страницей: пропущена запятая, случайное повторение, переставлены слова, не та буква. Мой карандаш стоил не меньше, чем карандаш Люка. Однако я не чувствовала себя униженной. По-прежнему стучали дождь и тетин «ундервуд». Прошло два часа.
* * *
Без четверти двенадцать я чихнула. Как можно неприметнее: просто звук «ч», произнесенный в нос и почти заглушенный носовым платком. Тем не менее Матильда повернулась всей своей массой и, погрузив подбородок в многочисленные складки на шее, подрагивая бородавкой на веке, долго меня рассматривала.
— Интересно, где это ты схватила насморк? Последние две недели ты все время кашляешь!
Я пригнулась и сделалась совсем маленькой. Я ждала. Но тетя уже говорила о другом:
— Люк, спустись за почтой. Сегодня утром консьержка к нам не поднималась.
Миландр, не угадавший в себе призвания мальчика на побегушках, не заставил повторять просьбу и ушел, волоча свои плоскостопные ноги. Вздохнув, Матильда протянула руку к деревянной чашке с булавками и скрепками.
— В прошлом месяце ты чувствовала себя куда лучше, — грустно говорила она, аккуратно скрепляя экземпляры. — А теперь что-то не ладится. Да, да, я прекрасно вижу, что-то не ладится. Ты… ты…
Широко раскрыв рот, она глотнула слово из пустоты и потом выплюнула его вместе с брызгами слюны:
— Тебе скучно, девочка!
Второе издание: Миландр мне это уже говорил. Я нахмурилась. Если мне не закатят сцену, то что-нибудь начнут предлагать. Что еще изобрела моя слишком добрая тетя с ее мелочной, не знающей предела опекой?
— Я встретила нашу районную уполномоченную по социальному обеспечению. Мы говорили о тебе. Ей так хотелось бы тебе помочь…
— Уволь меня от этого, пожалуйста!
Ухватившись за спинку стула, я разом поднялась на ноги. В подобных случаях, когда я хотела положить, конец всякому обсуждению, у меня был только один способ: прикинуться оскорбленной и удрать в свою комнату. Мое неодобрение выражалось уже тем, как я волочила парализованную ногу, не скрывая своей хромоты.
— Мадемуазель Кальен придет сегодня вечером, — поспешила добавить Матильда.
Толкнув дверь, я была уже у себя, в комнатке, которую выбрала потому, что она самая маленькая из наших трех комнат в мансарде — настоящая келья, выложенная плитками морковного цвета, обмазанная ослепительно белой штукатуркой, без всяких рамок, безделушек, двойных занавесок и печки, меблированная только железной кроватью и шкафом из неполированного бука. Я с облегчением погрузилась в эту пустоту, которая помогает мне отдохнуть от беспорядка общей комнаты, от болтовни, от чрезмерной заботливости тети. Я подошла к окну и тыльной стороной руки протерла запотевшее стекло. Неба уже совсем не было видно. Тучи опустились на самые крыши, блестящие от стекающего с них дождя. Вдали, между домами улицы Блан, едва угадывалась Марна: река из ваты текла к Парижу над рекой из ртути, затопляя баржи и заглушая гудки. Невозможно разобрать, какое время показывают ажурные башенные часы на церкви Сент-Аньес, растворившейся в тумане по другую сторону набережной. Этот своеобразный компресс, под которым умирала осень, это преходящее уничтожение пространства и времени подействовали на меня успокаивающе, и на какое-то мгновение я почувствовала удовлетворение от того, что живу, стою прямо, опрятная, одинокая, спрятавшаяся в свое платье.
Хлопнула дверь, и шаги Миландра разрушили очарование.
— Только одно письмо, — сказал Люк, — да и то по ошибке, адресованное бедняге Марселю. Где Констанция?..
— Дуется.
Я вернулась в общую комнату (ту, что прозвала «первозданным хаосом»). Тетя освободила стол от бумаг, переложив их на комод, и поставила на клеенку корзину с овощами. Я не выношу сидеть без дела и поэтому, вооружившись кухонным ножом, схватила картофелину.
— Прочти его. Люк, — коротко попросила я.
— Не надо, — запротестовала Матильда. — Писем, адресованных мертвецам, не читают. Я всегда сжигала письма, которые приходили на имя бабушки после ее кончины.
Не выпуская тряпки из рук, она принялась разыгрывать дуэнью из трагедии. Выбившаяся из пучка сальная прядь моталась с одного плеча на другое. Глубокие вздохи поднимали и опускали огромную грудь, прозванную нами «авансценой» и разделенную на две половины ручейком серебряной шейной цепочки. Люк в нерешительности грыз ноготь большого пальца.
— Читай же, — невозмутимо повторила я, срезая со своей картофелины толстую и широкую спираль кожуры.
Люк выбрал компромиссное решение и, положив письмо возле меня, шепнул Матильде в виде извинения:
— Это письмо под копирку… Вчера я получил такое же.
Тетя нахмурилась и ушла за ножом для чистки картофеля, а потом за своим незаменимым резиновым кругом, на котором она вынуждена сидеть из-за геморроя. Усевшись, она буркнула:
— В конце концов дело твое… Но как ты чистишь! Послушай, не срезай так помногу! Какие у тебя стали неловкие руки!
Смерив ее взглядом, я подумала: «А ведь у очищенной картофелины цвет ее лица. А кожура, которую срезает она, прозрачна, как кожица около ее ногтей». Потом я распечатала конверт, и из него выпал листок желтоватой бумаги — бланк лицея Жан-Жака Руссо. Текст, размноженный на ротаторе, украшала подпись, сведенная к росчерку в форме кнута. Письмо было кратким:
«Дорогой мосье!
С большим опозданием возобновляя прерванную войной традицию, мы организуем во второе воскресенье ноября вечер встречи бывших учеников лицея. В соответствии с нашим обычаем особо приглашаются лица, окончившие лицей десять лет тому назад, то есть выпускники тридцать восьмого года. Воспользовавшись этой встречей, мы также возобновим работу общества дружбы и выпуск его ежеквартального бюллетеня. Очень рассчитываем на вас, и в ожидании…»
Коротким движением я скомкала письмо в кулаке. Моя рука нервно мяла бумажный мячик «Жан-Жак Руссо»! То была пора, когда я, живая — вся живая, — посещала курсы Севиньи. Пора плоских чернильниц, до краев наполненных красновато-коричневой бурдой, черных лакированных пеналов (шедевр имитации японских лаков), толкотни и беготни по переходам метро. Пора быстрых решений и прекрасных иллюзий, итогом которых было признание, доверенное тетрадке в клеенчатом переплете: «Обязательно стану летчицей».
— О чем письмо? — пробормотала Матильда, когда любопытство взяло у нее верх над щепетильностью.