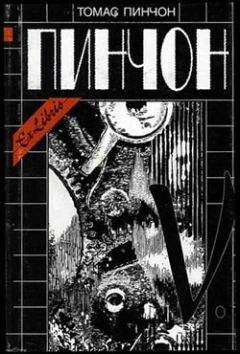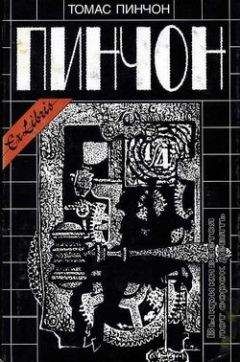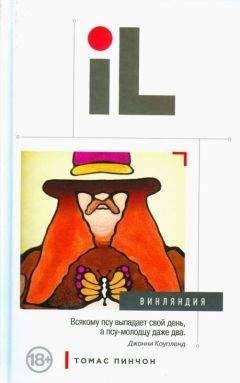– Эй, малыш, – сказал Дауд, поднимая Плоя за голову и внимательно рассматривая конвульсии хлопчатобумажных штанов, из которых торчали ноги, отчаянно молотившие по воздуху в ярде над палубой. – Куда это ты собрался и зачем?
– Смерти хочу, вот и все! – выкрикнул Плой.
– Разве ты не знаешь, – спросил Дауд, – что жизнь – это самое прекрасное, что у тебя есть?
– Ха-ха, – сказал Плой сквозь слезы. – С чего бы это?
– Потому что, – ответил Дауд, – без нее ты бы помер.
– А, – сказал Плой. Он думал над этим целую неделю. Он успокоился и снова стал ходить в увольнение. Его перевели на «Порывистый». Вскоре многим в кубрике стал слышаться после отбоя странный скрежещущий звук, доносившийся с койки Плоя. Так продолжалось недели две-три, а котом однажды около двух ночи кто-то включил свет, и все увидели Плоя, который сидел на койке, скрестив ноги, и точил зубы маленьким поганеньким напильничком. В следующую получку Плой в компании палубных забулдыг сидел вечером за столиком в «Матросской могиле» и был тихий-тихий. Около одиннадцати Беатрис, виляя бедрами, в очередной раз несла поднос, уставленный пивом. Плой наклонил голову, широко развел челюсти и с ликованием вонзил отточенные протезы в правую ягодицу официантки. Беатрис завизжала, кружки описали сверкающую параболу, к водянистое пиво залило всю «Матросскую могилу».
Для Плоя это стало любимой забавой. Слух о ней разлетелся по дивизиону, затем по эскадре и, наверное, по всей базе. С других кораблей приходили посмотреть. В результате нередко возникали драки, вроде той, что сейчас была в самом разгаре.
– Кого на этот раз? – спросил Бенни. – Я не разглядел.
– Беатрис, – ответила Беатрис. Так звали другую официантку. У миссис Буффо, владелицы «Матросской могилы», которую тоже звали Беатрис, была теория, гласившая, что подобно тому, как малые дети всех женщин зовут «мама», так и моряки, равно беспомощные в некоторых отношениях, должны всех официанток именовать «Беатрис». Придерживаясь этой политики материнского покровительства, она установила специальные пивные цедилки из мягкой резины в форме огромных женских грудей. В дни выдачи жалованья с восьми до девяти вечера происходило то, что миссис Буффо называла Часом Кормления. Она торжественно открывала его, появляясь из задней комнаты, одетая в кимоно с драконами, которое ей подарил поклонник из Седьмого Флота, подносила к губам золотую боцманскую дудку и играла «Приступить к приему пищи». По этому сигналу все бросались вперед, и наиболее удачливые присасывались к пивным соскам. Сосков было семь, а на потеху в таверне собиралось в среднем 250 человек.
Из-за стойки высунулась голова Плоя.
– Это, – сказал он, щелкнув зубами перед Профейном, – мой друг Дьюи Гланда, который только что зачислен на корабль. – Он указал на длинного и унылого босяка со здоровенным клювом, который выдвинулся из-за Плоя, волоча по полу гитару.
– Приветствую, – сказал Дьюи Гланда. – Я спою вам короткую песенку.
– В честь присвоения ему рядового первого класса, – пояснил Плой. – Он поет ее всем подряд.
– Это уже было в прошлом году, – сказал Профейн.
Но Дьюи Гланда водрузил ногу на медную перекладину, поставил на колено гитару и принялся шкрябать по струнам. После восьми тактов в ритме вальса он запел:
Позабыт, позаброшен, несчастен,
Бедный Штатский, как нам тебя жаль.
Плачут юнги о нем понапрасну,
Плачет в кубрике всякая шваль.
Раз ошибся – и жизнь не заладится,
Обрекут тебя, взявши за задницу,
Миллионы бумажек писать.
Двадцать лет за штурвалом я выстою,
Лишь бы вновь жалким Штатским не стать.
– Очень мило, – буркнул Профейн в пивную кружку.
– Это еще не все, – предупредил Дьюи.
– Ох! – простонал Профейн.
Тут сзади на него волной накатило зловоние порока, и чудовищная ручища легла ему на плечо, как мешок с картошкой. Краем глаза Профейн заметил пивную кружку, зажатую в огромном кулаке, который нелепо торчал из рукава, отороченного мехом шелудивого бабуина.
– Бенни! Как дела, старый греховодник? Хуйк-хуйк-хуйк. – Так смеяться мог только Хряк Бодайн, с которым Профейн служил на «Эшафоте». Бенни оглянулся. Действительно, это был Хряк собственной персоной. «Хуйк-хуйк» лишь приблизительно передает звук, который образуется, если поставить кончик языка на верхние резцы и с силой выхрюкивать воздух через глотку. Смех при этом получался, как на то и рассчитывал Хряк, ужасно непристойным.
– Хряк, старина! А ты как здесь застрял?
– Я в самоволке. Папаша Ход, наш помощник боцмана, перевез меня через бугор.
Чтобы не попасть в лапы берегового патруля, лучше всего было сохранять ясную голову и оставаться среди своих. Для этого и предназначалась «Матросская могила».
– Как гам Папаша?
В ответ Хряк поведал Профейну о тем, что Папаша Ход и та официанточка, на которой он женился, расстались друг с другом. Она ушла от него и устроилась на работу в «Матросскую могилу».
Ее звали Паола. Как она утверждала, ей было всего шестнадцать лет. Однако проверить это все равно не было никакой возможности, поскольку родилась она незадолго до войны, во время которой дом, где хранилась ее документы, был разрушен, как, впрочем, почти псе прочие здания на острове Мальта.
Папаша Ход познакомился с Паолой в баре «Метро» на Стрейт-стрит в столице Мальты Валлетте. Профейн присутствовал при этом.
– Чикаго. Слыхала про Чикаго, детка? – гангстерским шепотком спросил Папаша Ход, и рука его зловеще потянулась за пазуху. Это был его обычный трюк, известный по всему побережью Средиземного моря. Папаша достал из кармана носовой платок (а вовсе не обрез или пистолет) и, основательно высморкавшись, заржал над одной из девиц, которых угораздило подсесть к нему за столик. Штампы американского кино действовали на них безотказно – на всех, кроме Паолы Мейстраль, которая разглядывала Папашу, проделывавшего свои штучки, так пристально, что от напряжения крылья се носа трепетали, а брови сходились клином.
Знакомство Папаши с Паолой закончилось тем, что он переправил се в Штаты, одолжив 500 долларов (с обещанием вернуть 700) у корабельного кока по имени Мак, который ведал судовой кассой.
Для нее же замужество было единственным способом попасть в Америку, о чем вожделенно мечтали все средиземноморские официантки, – попасть туда, где вдоволь еды и красивой одежды, где круглый год тепло, а дома – не развалюхи. Папаше пришлось приврать иммиграционным властям насчет ее возраста. Впрочем, Паола при желании вполне могла сойти за особу любого возраста и, как это ни странно, любой национальности, поскольку болтала, похоже, на всех языках помаленьку.
Развлекая собравшихся в боцманском закутке матросов описанием Паолы, Папаша Ход говорил о ней с какой-то не свойственной ему нежностью, будто только сейчас – раскручивая повествование – начинал понимать, что отношения полов таят в себе больше загадок. чем он предполагал, и что ему, в конечном счете, не дано постигнуть всей глубины этого таинства, ибо она не поддается измерению. Впрочем, после сорока пяти лет никакому пройдохе заниматься этим уже недосуг.
– Хороша, – произнес Хряк в сторону. Профейн посмотрел в дальний конец зала и увидел, как к нему сквозь густой табачный дым приближается Паола. Выглядела она как самая что ни на есть заурядная официантка с Ист-Мэйч. И куда только подевались стремительность зайчихи прерий на снегу и ленивая грация тигрицы на запитой солнцем лужайке?
Она улыбнулась ему – печально и как бы через силу:
– Решил снова записаться на флот?
– Нет, я здесь проездом, – ответил Профейн.
– Давайте махнем на Западное побережье, – предложил Хряк. – Береговому патрулю на их драндулетах в жизни не догнать мой «харлей».
– Смотрите, смотрите, – закричал коротышка Плой, подпрыгивая на одной ноге. – Перестаньте, ребята. Уймитесь. – И он показал пальцем на облаченную е кимоно миссис Буффо, которая внезапно возникла за стойкой бара. Зал затих, и моментально был заключен мир в сражении на подступах к двери между морскими и сухопутными силами.
– Ребятки, наступил сочельник, – возвестила миссис Буффо и, достав из кимоно боцманскую дудку, заиграла. В воздухе затрепетала страстная мелодия, и при первых же звуках, подобных нежным трелям флейты, у изумленных слушателей расширились глаза и приоткрылись рты. Благоговейно вливая божественной музыке, посетители «Матросской могилы» но сразу осознали, что миссис Буффо извлекает из скромных возможностей боцманской дудки мелодию «Это случилось в ночь глухую» [6]. Где-то в глубине зала юный резервист, которому доводилось выступать в ночных клубах Филадельфии, негромко запел. Взор Плоя просветлел.