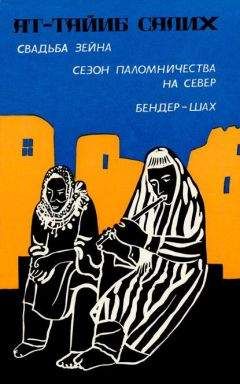С того самого вечера много дней провалялся он в постели, а когда после болезни встал, зубы у него разом выпали, только и осталось что один верхний да один нижний.
Лицо у него продолговатое, скулы выдаются, челюсти в разные стороны торчат, лоб круглый, выпуклый, а глаза маленькие, красноватые вечно, сидят глубоко — словно две пещеры. На лице ни единого волоска — ни бровей, ни ресниц. А когда пора мужской зрелости для него наступила, так и не выросли у него ни борода, ни усы.
А под этим лицом шея длиннющая, его еще с детства ребята дразнили «жирафом». Посажена эта шея на сильных и широких плечах — так что все тело треугольником кажется, а руки длинные, что у обезьяны. Ладони огромные, пальцы торчат, а на них острые длинные ногти: он их не стриг никогда. Грудь впалая, спина сутулая, а ноги длинные, тонкие, как у журавля. Ступни плоские, широкие, все в старых рубцах и шрамах. Зен ни во что обуваться не любит и хорошо помнит историю каждой из этих ран. Вот, например, этот длинный рубец через всю правую ступню от лодыжки до большого пальца. Зейн так рассказывает о нем: «Рана эта, братцы, свою историю имеет…» Тут его, как обычно, Махджуб прерывает: «Что это еще за история такая, ты, недоносок? Отправился небось воровать, да тебя, видать, колючей палкой избили?» Слова эти Зейну куда как но душе приходятся. Опрокинется навзничь, хохочет, пятками землю бьет, а то и вовсе: задерет ноги в воздух, да так своим чудным смехом и заливается — странным смехом, похожим, скорее, на ослиный рев. И смех его этот так заразителен, что вскоре вся компания вповалку лежит, за бока держится.
Но вот уже Зейн овладел собой, слезы с лица подолом рубахи вытирает, кряхтит: «Ох, ох… воровать отправился!..»
А Махджуб давай его опять подзуживать:
— Что это ты там воровать-то отправился? Небось крутился какой кусок пожирнее стянуть?
Не успеет Зейн ладонями утереться — снова смехом зашелся! Тут и доходит наконец до всей компании: а ведь верно, пробрался Зейн к кому-нибудь в дом стянуть кусок повкуснее, обжора-то он известный, ничем не подавится! Ну и…
Когда на свадьбах, бывало, столы накрывают и садятся за них люди этак в кружок, вся братия по сторонам косится — как бы к ним Зейн не подсел. Стоит обжоре только на блюдо глаза своп вытаращить — все! Ни куска никому не оставит!
Абдель-Хафиз спросил его:
— Может, скажешь о той проделке, что на свадьбе Саида устроил?
А тот, задыхаясь от смеха, ответил:
— Какое там — устроил! Аллахом тебе клянусь, все, что проглотить хотел, до крохи растерял, пока Исмаил меня догонял, паршивец!
Как-то, у Саида на свадьбе, доверили Зейну угощение разносить. Бегал он взад-вперед между диваном[3], где мужчины восседали, и тукалем[4], где женщины стряпней занимались. А по пути из тукаля в диван задержится на минутку — и ну давай лопать, что ему больше по вкусу!.. Так что, бывало, почти пустое блюдо на люди вынесет. Проделал он этак три раза, пока Ахмед Исмаил этим делом не заинтересовался. Пошел он за Зейном да притаился па полдороге. Остановился Зейн, крышку над блюдом с жареной курятиной приподнял, зажмурился от удовольствия. Только Зейн за сочную ножку схватился, ко рту поднес… Ох и накормил же его тогда Ахмед Исмаил пинками и затрещинами! Да…
Ну а Махджуб опять к нему с вопросом: «Что ты тут нам рассказываешь, побирушка? Чего это ты воровать отправился?» Видит Зейн, как вся честная компания уши навострила, усядется поудобнее, ноги под себя подтянет, руки под колени засунет — сидит, раскачивается.
— Прошлым летом, в пору вызревания фиников, задержался я, значит, у сакии. Ночь, парень, луна — так и переливается… Перебросил я рубаху через плечо — темно, зачем надевать-то? И спустился к домам. И, скажу тебе, как дошел до песков на краю деревни, слышу: бабы голосят, заливаются…
— Да-да, точно, — вставил Махджуб. — Тогда свадьба у Бакри была.
— Ну вот, — продолжает Зейн. — И сказал я себе, парень: пойду узнаю, в чем там дело. А оказывается — люди из Тальхи на свадьбе веселятся. Ну, пошел я дальше, а там — прямо столпотворение: шум, гам, крики эти бабьи, танцы… Ну, я первым делом, конечно, пошел себе поесть что-нибудь высмотреть…
Тут собрание хохотом взорвалось — именно этого они и ждали.
— Ну, бабы, — продолжал Зейн, — дали мне там кусочки мяса, съел я его и что-то горькое выпил…
— Это, значит, они тебе арак неразбавленный дали, — сказал Махджуб.
— Нет, — ответил Зейн, — не арак. Ты что — думаешь, я арак не знаю? Ну, я тебе скажу, выпил я это самое — прямо в голову ударило. Потом я из тукаля вышел… В дом вошел: баб — куча! И — вонища! Духи, масла ароматные, благовония — не продохнуть! Остановился даже. Разводом тебе клянусь, опьянил меня запах этот.
— Где это ты бабу для развода завел? — рассмеялся Абдель-Хафиз.
Зейн и ухом не повел, плетет свою историю дальше — разобрало его.
— Да… А посредине увидел невесту. Красивая девочка — крупная. Надушена, напомажена. Платье, побрякушки — пальчики оближешь!
И тут вдруг он замолчал. Глазками своими маленькими по лицам водит, рот раскрыл, так что два зуба его показались, торчат. А Махджубу не терпится — ерзает, Зейна подзуживает:
— Ну а дальше-то что?
— А дальше я, значит, с невестой потешился.
Сказал он это — да как подскочит с места, словно лягушка. Собрание зашумело, а Зейн хохочет, заливается — па животе лежит, пятками мух ловит. Потом на спину перевернулся, сквозь смех выдавил:
— Ага! Поймал я ее и укусил в губы!
Махджуб аллаха вслух помянул, прощения попросил. Тьфу ты, говорит, прости господи.
— Да говорю я тебе — бабы завизжали, руками замахали, дом кипит весь, невеста орет благим матом. И вдруг кто-то на меня с ножом кинулся!.. Как подскочил я, как побежал — не оглядывался уж ни разу, пока за родным порогом не оказался.
Тут Зейн вдруг сел, выпрямился, стал необычайно серьезным и повернулся к Махджубу:
— Послушай, брат. Стало быть, выдашь ты за меня свою дочь Альвию, или что скажешь?
А Махджуб ему этак серьезно, уверенно, словно все уж продумал, говорит:
— Дочь моя тебе предназначена. Вот перед людьми всеми, тут собравшимися, говорю: пожнешь свою пшеницу, финики соберешь, продашь, деньги доставишь — и сговоримся.
Зейну такое обещание по душе пришлось. Он замолчал. Брови сдвинул, губы сжал — словно и впрямь о будущей жизни своей с Альвией призадумался, о бремени тяжком да заботах мирских — о жене, о детях.
— Кончено! — говорит. — Свидетелями будьте, братья. Человек этот слово свое сказал. Ладно или тошно — завтра думать сложно!
Ну, тут вся компания разом заговорила: и Ахмед Исмаил, и Ат-Тахир ар-Равваси, и Абдель-Хафиз, и Хамад Вад ар-Раис, и Саид-лавочник. Все сказали, что они свидетели обещания, которое дал Махджуб. Слово дал — как говорится, отрезал, и быть, значит, свадьбе, коли пожелает того аллах.
… История любви Зейна и Альвии, дочки Махджуба, была тогда последней его любовной историей. Через месяц или два, как водится, надоест ему это дело и начнет он историю новую. Но сейчас он только Альвией и живет — с именем ее спит, с именем ее встает. Ежедневно в полдень он на поле — согнется в дугу над своей мотыгой, дергается, пот с лица рекой льется, и вдруг — копать бросит, да как заорет благим голосом:
— Повязали меня на дворе у Махджуба-а!
На соседних полях десятки людей мотыги бросят, стоят как в землю вкопанные, прислушиваются. Молодежь смеется дружно, а старики, кому надоели забавы Зейна, бормочут с досадой:
— Вот парень расхлябанный, ну чего он болтает, чего несет? Ишь, жеребец!..
Солнце к земле клонится, работа на полях к концу подходит. Идет народ по домам, и Зейн со своего поля домой шествует во главе молодежной процессии. Подростки, девчушки малые вокруг него вьются, хохочут, а он себе важничает, сияет: этого по плечу хлопнет, ту за щеку ущипнет. И скачет, как газель в воздухе. Увидит деревце или куст на обочине — непременно перепрыгнет. Да время от времени орет себе во весь голос, а эхо волной отдается на окраинах притихшей деревни, которую уж было оставило в покое зашедшее солнце:
— Урру-рук!! Эй вы, утопленники! Эй, отпущенники!.. Повязали меня, как сноп, на дворе у Махджуба-а!..
Первая любовь поразила Зейна задолго до той поры, когда приходит мужская зрелость. Был он тогда годов тринадцати-четырнадцати от роду, тоненький да тощий, словно высушенный стебель. Что бы там люди про Зейна ни говорили — все признают, что вкус у него отменный: влюбляется он только в самых красивых девушек во всей деревне, в самых пригожих да ласковых, с самыми нежными речами. Аззе, дочери деревенского омды[5], исполнилось пятнадцать лет, когда раскрылась вдруг вся ее красота. Засверкала она, словно молоденькая пальма, омытая дождем после долгой засухи. Кожа у нее золотистого цвета — что поле гречихи перед жатвой, а глаза — широкие, черные на чистом лице с тонкими чертами. И ресницы свои, длинные и черные, раскрывала она не спеша — так что всякого за сердце брало. А Зейн был первым, кто привлек внимание молодежи всей деревни к красоте Аззы. Это его голос однажды раздался над толпой мужчин, которых омда согнал обрабатывать свое поле. Голос этот резкий и хриплый, что крик петуха на заре, возвестил: «Очнитесь, люди добрые! Где вы, отпущенники безгрешные?! Азза, дочь омды, словно сноп золотистый! Повязали Зена жгутом на дворе омды!..»