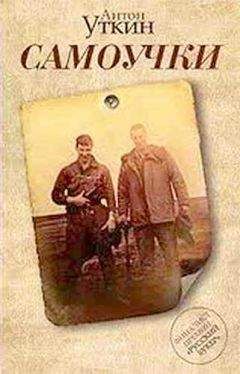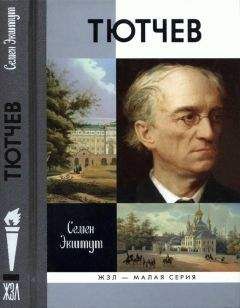Смеркалось, и я запалил огарок, через пару минут потекший в консервную банку тягучим сталактитом. Вещи были собраны и дожидались в сумке дорожной тряски. Последним я уложил листок с рисунком, поместив его за край паспортной обложки. Напоследок я приблизил его к искрящему огоньку свечи. Сейчас я заметил, что человечек едва заметно улыбается, потому что на этом месте запнулась то ли ручка, то ли рука. Линия рта загнула его уголки и стала похожа на математический значок бесконечности, а сам рисунок — на персонаж мультфильма, невеселого мультфильма для взрослых.
Ночь порхала, словно бабочка, крыльями глупых мотыльков. Я вышел наружу и уселся на толстый ствол поваленного бука. Передо мною неровной чередой лежали могильные холмики, плотные, словно костяшки худой кисти, загрубевшие наросты этой земли. Мой взгляд приковывал крайний — могила без покойника, курган, оскверненный не гробокопателями, а отсутствием содержимого, рассыпчатый футляр пустоты, страшный символ наших дней. Над нами, в прохладной вышине, моргали, пульсировали звезды, подрагивая в трепете холодного осеннего тока невидимой радугой, словно самое большое в мире колесо, то ли выступающее из мягкой земли, то ли увязшее в ней по ступицу.
Но не было видно того, кто управляет этим колесом, вращая педали, балансируя, хватаясь руками за воздух, под куполом вселенского цирка. Взошла луна и осветила деревья и предметы. Ее голубоватое сиянье коснулось поваленного дерева, на котором я сидел. Кора его была серая, толстая, твердая, с редкими складками — швами, как кожа слона.
Ночь посветлела. Я вынес свой подсвечник и установил его на могиле, примяв каблуком неровности земли и пригладив ладонями стебли повлажневшей уже травы. Потом нащупал в кармане куртки тюбик с краской и расщепленной соломинкой вместо кисточки нанес на камень недостающую нужную цифру.
В этот час я поверил, что эти яблоки, уже подгнившие снизу, и эта свежая могила, которая просядет весною, как пломба в дурных зубах, оборванные наличники, морщинистая плоть ореховых деревьев, стопки почерневшей дранки да образок, писанный шариковой ручкой на обрывке бухгалтерской тетради, — это и есть мое наследство, хотя меня никак не оставляла мысль, что где — то здесь меня дожидаются деньги, большие, нешуточные деньги — аккуратные серо — зеленые пачки, обольстительно одинаковые, как слитки монетного двора.
Уже за полночь ко мне зашел реставратор — сообщить, что в восемь утра в станицу пойдет “ГАЗ–66”, который привозил бензин в обмен на картошку и который вместе с картошкой увезет и меня, если я выйду на развилку.
— Зимой здесь такой снег, — сказал он, присаживаясь рядом со мной на бревно, — метра четыре, а бывает и одиннадцать. Раньше вертолет летал из Гудауты, а как война началась, так и не летает больше… Здесь же ополчение собиралось, на помощь абхазам. Это ополчение, кстати, потом Гагру и захватило. Ну вот, когда грузины пришли, летчика этого взяли, чтоб он сюда летел на вертолете. Бомбить. Он один только и оставался из всего отряда, остальные уехали сразу, как война началась. С закрытыми глазами долететь мог, в любую погоду — двадцать лет летал по здешним горам. Повели по взлетной полосе, а там бочка с гудроном стояла, железная. Они там швы заливали, что ли… Так он в гудрон руки сунул, чтобы не лететь. Вырвался и в гудрон руки сунул. Обварил — куда тут лететь? Так мне говорили.
Реставратор отломил от ветки бука высохший прутик и водил им по траве. Луна поднялась из — за горы еще выше и светила нам в спину. Наши тени, неестественно вытянутые, как отображения в комнате смеха, неподвижно лежали прямо перед нами в пространстве прохладного голубоватого света. Двигался только прутик, выросший в целую оглоблю.
— Убили его? — спросил я.
— Да нет. Его здесь все уважали — и те, и эти. Били только сильно… А потом пустили.
Упало яблоко и глухо ударилось о землю.
— Он уехал теперь в Минеральные Воды, там у него сестра живет… Не смог здесь.
Я вернул ему початый тюбик с краской, и через небольшое время мы простились. Он, высоко поднимая ноги, пошел на дорогу. Его башмаки трагически шуршали в сухой траве.
Всю ночь я почти не спал и каждые десять минут глядел на часы, подставляя циферблат под лунный свет, лившийся с близкого неба в маленькие окна широкой струей, как молоко из кувшина. Едва посветлело, я был уже на ногах и вышел на развилку задолго до нужного времени.
Прохлада забиралась под одежду, хотя солнце, еще розовое вдали, весело блистало в ветвях и на мокрых замшелых корнях деревьев. Иней таял и стекал по ломким стеблям желтеющей травы в холодную землю. Когда часовая стрелка отползла от восьмичасовой отметки наполовину, издалека, снизу затрещал мотор. Спустя несколько минут показалась машина. Это был тот самый “ГАЗ”, о котором говорил реставратор, — кузов был завален мешками. Увидав меня, водитель остановился и сам открыл дверцу изнутри, так что мне не пришлось ничего объяснять и ни о чем договариваться — все было ясно. Как будто ему жалко было растрачивать слова впустую.
От самых последних строений, широко расставленных вдоль горы, под которой остался и мой домишко, на дорогу вышел мальчик. На нем были тренировочные штаны с вытянутыми коленками, на острых плечах болтался свитер. Ноги его были обуты в калоши, которые делают из резиновых сапог, обрезая им голенища. Позови мать, велел ему водитель. Скоро показалась и она, точно в таких же калошах и синих спортивных штанах, только ноги у нее были поплотнее и штаны сидели в обтяжку. Женщина волочила мешок с картошкой. Мальчик подхватил его, но не удержал, мы с водителем вышли и бросили мешок в кузов.
— Это вы разуваевский дом купили? — спросила женщина, утирая пот, который катился из — под белой косынки на выпуклый загорелый лоб. Голос у нее оказался неожиданно тонкий, почти визгливый.
— Точно. — Я не стал вдаваться в подробности.
Мальчик стоял чуть поодаль, наблюдал и слушал.
— В газете работаете? — Два передних зуба у нее были вставные и поблескивали металлом.
— В журнале.
— Ага. — Она смотрела на меня изучающе, потом вдруг попросила со смешком: — Может, про нас напишете?
— Да что же я напишу? — растерянно сказал я.
— Да просто напишите, что живут здесь такие. В тысяча, как это, девятьсот девяносто… — м году. — Она смущенно улыбнулась. — Как мы тут картошку на бензин меняем, про это напишите.
Около нашего с Пашей двора водитель затормозил еще раз и вышел набрать моих яблок, которые ему некуда было складывать. Он рассовывал их по карманам брезентовой куртки, потом я дал ему пакет, и он принялся набивать и его, но яблок оказалось слишком много для одного пакета, они никак не помещались и верхние то и дело валились обратно на землю. Пока мы собирали яблоки, мальчик куда — то отлучился, а потом он появился снова и встал на дороге. Я забрался в кузов. “ГАЗ” тронулся и, переваливаясь как утка, потащился в заросших колеях. Мальчик будто завороженный не изменял положения и не трогался с места и все смотрел, как уезжает машина с картошкой. Наши взгляды образовали прямую. Я знал, что мальчик, как отрок Варфоломей, запомнит эту картину надолго, может быть, на всю жизнь: грабы и буки, косые пятна света на траве, овальные цифры бортового номера и на мешках — человек из другого мира. До самого Адлера я ел эти яблоки, превращая в кашу бело — зеленую благодать.
В Москве накрапывал дождь, на улицах царила чернильная темень — первый снег, о котором передали по радио, сошел за половину дня. Небо провисало над домами маскировочной сетью, истрепанной и порванной театральной декорацией, заплатанной такой же ветошью, с редкими осколками фальшивых звезд, а воздух на улицах был плотным, кислым, прогорклым от автомобильных газов. Город спрятался под гигантской маскировочной сетью, город надежно укрылся и спрятал своих обитателей. Нам весело в нашем городе, и мы ничего не хотим знать — оставьте нас в покое, было написано на самых высоких домах, полукружиями и прямо, подсвеченными мерцающими буквами рекламных слоганов.
Первый раз я встретился с Ксенией на Ленинском проспекте. Я смотрел в окно автобуса, и мой взгляд врезался в ее огромные глаза.
Изображения Ксении на рекламных щитах появились в одну ночь. В одну ночь рабочие в синих австрийских комбинезонах раскатали огромные рулоны фотобумаги и расклеили улыбающееся лицо, а потом уехали на машинах с выдвижными лестницами. Лицо было помещено без всяких надписей — просто женское лицо на белом фоне. Милого шрама тоже не было — стилисты рекламного агентства знали, за что берут деньги. Волосы были забраны в косички — так носила Алекс. Наверное, все это вызывало недоумение. Я видел, как некоторые прохожие удивленно переглядывались. Что это значит? — хотели, может быть, спросить они. Но спрашивать было некого. Только один человек во всей Москве мог прояснить дело. Глаза Ксении излучали печальное счастье. “У меня все в порядке, — говорили эти глаза. — А как у вас?.. Ничего, потерпите”. Сострадание, как гниение в расцвете, как смерть в жизни, таилось двумя осязаемыми точками, блуждающими на дне застывшего взгляда, в глубине неподвижных зрачков. Это был ее день — в такой же день много лет назад она родилась. Сколько именно? На этот вопрос она никогда бы мне не ответила.