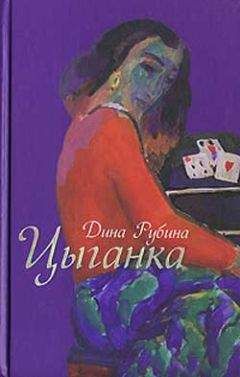Однако темные очертания замка на горе, заслоняющего изрядный кусок неба, даже отсюда, снизу, казались величественными.
— Замок-то — настоящее сокровище… – повторила она. – Старый граф, когда нацисты пришли к власти, бежал со всем семейством за границу… Он всю жизнь был по дипломатическому ведомству и оказался замешан в одном деле… Я не очень вдавалась, когда графиня рассказывала, но, в общем, он выправлял подложные документы и помогал беженцам скрываться…
— Каким беженцам? – спросила я.
— Ой, вот я вам не скажу точно… – огорченно улыбнулась она. – Надо бы у графини спросить, она все знает — ах, жалко, что вы уезжаете!
— Так он бежал с семьей за границу… а как же замок?
— О, это история, не хуже «Монте-Кристо»! Здесь оставался старый Рихард, управляющий, он, знаете, из семьи, что пятое поколение графам служит, – деды его, прадеды здесь жили в замке, дочь его Эльза сейчас старшая горничная… Ну, так он все успел спрятать, все имущество!
— Все имущество? Такого громадного замка?
— Да! Да! Так Эльза говорит, а она не станет врать — зачем ей? Он с тремя своими сыновьями все спрятал в каком-то укрытии, в лесу… Так что почти ничего не пострадало — ну, кое-где в парадных покоях позолоту содрали и резные панели старинные сняли в дубовой зале… а так ничего. А после войны графы вернулись и привезли молодую португальскую принцессу. Говорят, в молодости была ослепительной красоты, южных кровей, знаете… Потому и дети — симпатичные, кудрявые. Много все-таки значит — свежая кровь в старинных этих семьях…
— И сколько же у нее детей?
— Трое. Сын и две дочери. Внуки уже немаленькие. И все, знаете, очень удачные: работящие, образованные, хорошие специалисты. Графиня — строгая мать, всех воспитала в труде. Поэтому все ребята стоящие. Недавно вот только переполох был со старшим внуком, Алексисом. Он учился в Петербурге, влюбился там в сокурсницу, а она совсем простая девочка, из Петрозаводска. Забеременела. Скандал! А он уперся: женюсь, и все! Порядочный, понимаете? Это их графиня так воспитала.
— Ну и как выкрутились? – спросила я.
— Пришлось документы девочке покупать…
— Какие документы?
— Что она княгиня.
— А разве в России можно купить такие документы?
— В России, деточка, – сказала она, – все сейчас купить можно…
Она вздохнула, поколебалась — говорить или нет, потом решилась:
— У нас, когда Эльза не в духе, она проговаривается. Хотя и — слов нет! – графине предана, как курица петуху. Но ежли что не по ней, ежли графиня в чем отказала — так и бурчит, так целый день и бормочет, сплетни вяжет…
— И что ж за сплетни?
— Да так, глупости… – неохотно проговорила она, вероятно, жалея, что коснулась этой темы. – Бурчит, что графиня легко так решает эти семейные проблемы, оттого что в свое время и для нее пришлось документами озаботиться… Мол, старому графу, как только он узнал, что сын влюбился в девушку из монастыря…
— В какую девушку из монастыря?
— Так ее, вроде, в монастыре прятали, – пояснила моя собеседница. – И как там они с молодым графом встретились, неизвестно, но такая безумная случилась между ними любовь… Я уж не знаю сейчас, что правда, а что нет, но только старшенький-то у них сорок пятого года рождения… – Она вдруг умолкла, как спохватилась. – Ну и, словом, старому графу ничего другого не оставалось, как и ей документы выправить… Ой, да я же говорю — глупости все это, какая разница — кто, где… Эльза — просто сплетница старая!.. А насчет Алексиса, я тоже думаю — совет да любовь. Подумаешь — простая! А наша-то императрица, Катерина Первая, – разве не простая была? Не Катька обозная?! И ничего, что ребеночек раньше родится. Это ж не средневековье какое, что девицу, бывало, привяжут волосьями к телеге да и волокут по деревне — ужас!
— Вообще-то они небогатые, – сказала она доверительно. – Денег-то у них нет. Я месяца три назад была в крыле молодого графа, помогала с приемом в честь помолвки его дочери, средней внучки графини. Так я вам скажу: вот я — эмигрантка, но как по мне, мое постельное белье куда лучше графского — крепкое, чистый хлопок и лен. Знаете, ивановская мануфактура. А у наших-то, у графьев — все белье, скатерти, занавески… такое все старое, тонкое, ветхое… Я перед приемами начищаю на кухне мятые их серебряные плошки-тарелки. Господи, говорю, да как же можно таким знатным гостям на такой рухляди подавать? А Эльза мне в ответ: ты только сдуру при графине этого не ляпни. Это посуда фамильная, с гербами, шестнадцатый век…
Мой друг с женой докурили свои сигареты, и он легонько постучал ногтем по стеклу часов… Мне сегодня еще надо было добираться до Кёльна.
А наша провожатая никак не могла расстаться со мной, «ташкентской весточкой». Все время обрывала себя, спрашивала с надеждой:
— А Юсуфа Рахматуллаевича из «Узбекбирляшу», случайно, не знали? А Оганесяна — он в семидесятых был начальником главка?..
Мой друг открыл дверцу машины, сел за руль. Махнул мне нетерпеливо…
— Красиво у нас, когда охота, – сказала она. – Все егеря окрестные съезжаются, такие костюмы роскошные, все на лошадях… Рога трубят — аж досюда звуки доносятся, воздух-то какой у нас — горный, прозрачный…
Стали уже прощаться совсем. Я села в машину. А она все стояла у дверцы и, наклонившись к окну, повторяла:
— Вы еще приезжайте, я познакомлю вас с графиней, она простая, живая такая, вот на вас похожа, даже внешне… Португалия, а там Испания близко… Такие, знаете, черноглазые края…
— Знаю, – сказала я.
Мы стояли на перроне, ждали поезда на Кёльн. Неподалеку от нас прогуливалась немолодая, но статная, с модной прической на красиво посаженной голове, женщина. Несколько раз мой взгляд задерживался на ней, и я вдруг подумала, что именно такой представляю себе графиню из замка.
И пока я ожидала свой поезд, на перрон прибыла электричка.
Женщина вошла в освещенный вагон, села у окна и, стянув перчатки, принялась, глядя в свое отражение, взбадривать ладонью прическу, поддавая себе легких подзатыльников и похлопывая по вискам, словно приводя в чувство. Взгляд ее был направлен в стекло, в никуда — отстранен… Но я-то видела ее внутри освещенного вагона, и значит, наша мимолетная встреча все еще длилась.
Наконец, поезд дрогнул, качнулся и поволок ее прочь, как волокли в старину неверную жену или потерявшую стыд девицу, прикрутив волосьями к телеге…
Гладь озера в пасмурной мгле
…красота — всегда снаружи; потому что она — исключение из правил. Вот это — ее местоположение и ее исключительность — и заставляет глаз бешено рыскать или — говоря рыцарским слогом — странствовать. Ибо красота есть место, где глаз отдыхает… Главное орудие эстетики, глаз, абсолютно самостоятелен. В самостоятельности он уступает только слезе.
И. Бродский. Набережная Неисцелимых
1
Водители на юге Италии не всегда сигналят по дорожным поводам. Часто они так приветствуют знакомых, притормаживая, чтобы спросить зеленщика Паоло, как чувствует себя жена после родов и достаточно ли у нее молока.
А вот по серпантину, в брезентовой будке мотоцикла, рассчитанной на одного, причем, малогабаритного человека, едут двое — старик со старухой. Не знаю уж, где помещается старухина корма, но голову она уткнула подбородком старику в плечо. Монстр о двух лысых головах тарахтит себе по своим овощным делам, отчаянно сигналя; позади в открытом кузове колышутся на ветру папоротниковые пучки свекольной ботвы.
Насчет скоростей: да, кто-то любит щекотать себе нервы аттракционом «американские горки», а кто-то всю жизнь просто водит автобусы между Сорренто и Амальфи. Переживания похожие. Во всяком случае, для пассажиров.
Однажды я одолевала обморочные местные виражи, пересчитывала туманным от головокружения взглядом кольца горной дороги, нанизанной на отвесные скалы. И все-таки опять рискнула взобраться на сиденье автобуса, что вальсировал над заливом, как цыганский медведь на ярмарке.
* * *
Где-то я уже рассказывала о своих отношениях с иными языками. Но должна кое-что добавить для высокомерных счастливчиков, обладателей многозвучно оркестрованной гортани.
Да, мои связи с иностранными языками беспорядочны.
Перед очередной поездкой в очередную страну я зачем-то вызубриваю десяток глаголов из разговорника и при случае бойко выстреливаю двумя-тремя фразами, грамматическое строение которых мне неведомо; все это, нахрапом приобретенное, спотыкается о каменный иврит, который не желает уступить ни пяди, перемежается мусорными «эбсолютли» и «импосибл», сопровождается возгласами и дирижерскими взмахами обеих рук в неопределенные стороны; но главное, эти чертовы «данкешён», «варум» и «цузамен», что застряли от весенних немецких гастролей, подло выскакивают в совсем, казалось бы, ловко сбитой английской фразе, довершая образ диковатой и очень общительной русской тетки с израильским паспортом.