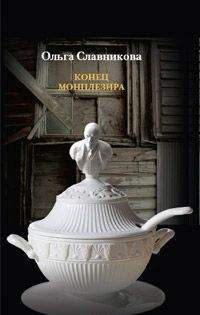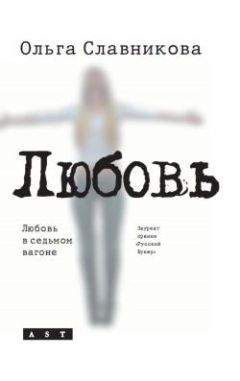Несмотря на то что вещи этой пары (являвшие собою груду беспородных, чумазых, будто свиньи, спортивных сумок, частично лежавших в багажнике профессора, частично загромождавших кабинет) были явно упакованы раздельно, характер их отношений сомнения не оставлял. Тем не менее, наблюдая, как они перерыкиваются и обмениваются звериными быстрыми взглядами, профессор соглашался с тем, что вдвоем они — подходящая, сильная команда. Эта женщина в мужском пиджаке с лацканами будто акульи плавники была то, что надо: все, что видели ее простонародные глаза цвета зеленых щей, она принимала с невозмутимостью зеркала — но сделана была, похоже, из небьющегося материала. Время от времени кандидатка на должность, резко отставив в сторону мизинец, произносила ровным голосом несколько слов — и ее замечания, бывшие скромными, но точными редакторскими правками текста беседы, свидетельствовали о ее спокойном природном цинизме и полном отсутствии сложных соображений по простым вопросам.
Профессор видел, что пассия его дорогого ставленника выгоднейшим образом отличается от милой Марины Борисовны, к которой прежде он испытывал приятное отеческое чувство, а теперь как-то стал опасаться ее агрессивной тревожности, этого ее дарования оживлять отмирающие проблемы и все время представительствовать от имени каких-то сотрудников или просто граждан, не имеющих касательства к дальнейшим перспективам. Сейчас профессор, хоть и не показывал виду, был весьма доволен своим дополнительным приобретением, прибывшим из Краснокурьинска с мисками и сковородками, чьи очертания были прекрасно заметны в одном из мест цыганского багажа. В частности, появление альтернативной кандидатуры снимало с Шишкова дорогую сердцу, но все-таки тягостную ответственность за очаровательную Мариночку, потерявшую чувство реальности и вступившую в отношения с каким-то диким избирательским активом, — и профессор даже помолодел, как молодел всякий раз, когда выходил из-под контроля любимого существа. Он видел, что эти двое на его итальянском диване отлично ладят друг с другом, и очень может быть, что на своем зверином языке они выражают философию обновленной «Студии А» значительно вернее, чем это сделал сам профессор в корректных и уклончивых инструкциях.
Доволен был Шишков и тем, как развернулись сегодняшним утром судьбоносные события. Несмотря на то что у него до сих пор подрагивали в брючинах седые бородатые колени и тонко, будто от приложенного холода, ломило левый висок, профессор чувствовал себя Наполеоном Бонапартом. Накануне его генеральный инвестор (чей вид даже в представлении Шишкова, допущенного к телу, был нереален, но подобен туману, скопившемуся по ту сторону добра и зла) все-таки получил контрольный пакет апофеозовской телестудии: держатель недостающих акций очень долго отказывался продавать свою политически доходную собственность, но ввиду результата выборов немедленно согласился. Инвестор, выложивший за студию принудительно-божескую, но все-таки очень серьезную сумму (смешно подумать, что он вот так же стал бы выплачивать деньги на основании записей в растрепанных капустой регистраторских журналах), немедленно провел собрание акционеров в лице себя и приказом уволил Кухарского, назначив вместо него краснокурьинского поэта, чьи тощие сборнички, прошитые тетрадными скрепками и украшенные велеречивыми дарственными надписями, валялись у инвестора в столе.
Имея на руках этот исторический приказ, профессор и спешно прибывший, не успевший позавтракать поэт отправились в «Студию А» — и были правы, прихватив из дружеской охранной фирмы два десятка камуфлированных молодцов. Сопротивление, оказанное секьюрити Кухарского, было, впрочем, довольно условным: эти ребята, отличавшиеся от атакующих более торфяным оттенком курток и штанов, недолго припирали буксующими телами несколько последовательных дверей, — получив хороший сотрясающий удар, отскакивали разом, точно выбитая пробка, и бежали впереди противника по коридорам, продолжая буксовать отяжелевшими, словно начерпавшими страху ботинками и пугая сотрудников, что высовывались из своих рабочих комнат с беспорядочностью мишеней на учебных стрельбах. Финальная схватка перед кабинетом Кухарского была короткой и решительной: атакующие, заламывая руки деморализованным защитникам и управляясь с ними точно со складной походной мебелью, сломали заодно запутавшийся в драку легонький стул, — и интеллигентнейший профессор поймал себя на том, что его приятно будоражит вид окровавленной рожи, хаканье и хеканье дерущихся, прямой снаряд армейского ботинка, вышибающий дух из шкафчика с посудой, чье райское ликование над собственными останками вызвало у кого-то из толпы подавленный стон.
Видимо, применение баллонов со слезоточивой дрянью было уже излишним. Должно быть, на нервы легионерам подействовали все эти малахольные режиссеры и журналисты, что шли, гогоча как гуси, следом за победителями и в директорском предбаннике буквально наступали на дерущихся, роняя им в партер горящие окурки и острые женские туфли. Перед тем как пройти в кабинет к Кухарскому, журналистов немножечко спрыснули: перекрестные струи, напылившие в воздухе приемной селедочно-жирную радугу, заставили сотрудников шарахнуться и выпучить глаза. Под перхание и клекот полуудушенного птичника (кто-то, хватая руками обожженное горло, валился спиной на смятенных товарищей, кто-то, упав на четвереньки, спускал тягучий завтрак и сок на затоптанный ковер) легионеры профессора ворвались в святая святых; чувствуя некоторый перепончатый шорох под черепом и стараясь не вдыхать противный приторный парфюм, профессор последовал за ними.
Кухарский, очень небольшой за своим подковообразным директорским столом, сидел, прижимая к щеке телефонную трубку, точно у него внезапно разболелись зубы, — и в трубке явно не было собеседника. Профессор, прикрываемый с флангов, четко подошел к столу и положил перед Кухарским копию приказа. Ухмыльнувшись до ушей, Кухарский взял бумагу волосатыми пальцами и нежно разорвал ее на две воздушные ленты. Потом, ворча и глядя снизу профессору в глаза, он повторил процедуру множество раз, пока от приказа за высокой подписью не остались щипаные клочки. Дав ему завершить его тугой и тщательный труд, профессор достал из папки другую, словно бы святую от принятого мученичества, еще более белую копию и одновременно — по наитию — сделал легионерам круговой, несколько напоминающий о циркуле, полководческий знак. Немедленно боевики бросились в обход директорского стола и некоторое время пытались изъять Кухарского из стеганого кожаного кресла — но только катали его, поджавшего ноги и дико хохочущего. Профессор впервые с начала штурма немного растерялся — тем более что в приоткрытых дверях кабинета начали один за другим образовываться выжившие сотрудники, теперь прикрывавшие лица мокрыми плаксивыми платочками. Кто-то, замотанный на манер человека-невидимки в целое вафельное полотенце (это был хладнокровный Костик, впоследствии заработавший на фотографиях как в бумажных медиа, так и в Интернете) снимал, ныряя за спинами и издавая своей мыльницей какое-то летательное авиамодельное жужжание, сенсацию дня — и профессор немедленно сообразил, что со стороны событие выглядит совсем не так, как в его взволнованной душе.
Но тут на первый план вышел до сих пор державшийся в арьергарде, физически голодный, бледный, но исполненный первобытной мощи краснокурьинский поэт. Отстранив взопревших, пахнущих брезентом боевиков, у которых шеи были словно натерты красным перцем, новый директор самолично засучил рукава. Резким бэтээровским маневром тяжелого кресла он ссадил побежавшего Кухарского в угол. Затем, сориентировав сиденье точно по центру стола, залез, переваливаясь ягодицами, в тучно заскрипевшую глубину и вытянул перед собою строго параллельные кулаки. Теперь новоназначенный директор, словно бы ухвативший и потянувший на себя рычаги управления студией, смотрел на подчиненных ничего не выражающим взглядом в упор, глаза его стояли под козырьком надвинутого лба, будто прилепившиеся к утопленной доске воздушные пузыри. Все разом стихли при виде этого явления, невозмутимо дававшего себя рассмотреть и бывшего наглядным вызовом всему накопленному студией административному опыту. Оттого что самозванец расположил себя строго по оси главного помещения, он выглядел как убедительный стержневой человек, и сотрудникам вдруг показалось, будто во лбу у него под мальчиковой челочкой, подстриженной как у Кашпировского, набухает и ворочается третий всевидящий глаз.
Ссаженный Кухарский, такой наглядно лишний сбоку от центральной линии, которую новый директор почти физически проложил перед собой через стол и гущу столпившихся людей, криво улыбался и разводил руками, ловя всем телом, будто луч спасительного солнца, сорочий взгляд куда-то подевавшегося фотоаппарата. Собственно, ему оставалось только уйти, чтобы вернуться. Однако вылезть из угла он мог, лишь преодолев препятствие в виде плотно усевшегося соперника, вовсе не намеренного оставлять завоеванную позицию. Вытащив у самозванца из-под локтя несколько первых попавшихся, плохо завязанных папок (тот не обратил внимания, только крепче уперся короткими ножками в перекладину стола), Кухарский принялся протискиваться. Несколько минут продолжалась эта дикая кульминация. Кухарский лез, ухмыляясь и что-то бормоча как бы в собственное ухо, елозил и привставал на цыпочки, лоб его обсыпала бисерная влага, прижатые локтем рыхлые бумаги тихонько сплывали у него по животу. Центральная линия, которую сотрудники видели теперь и на стене, казалось, пропускала бывшего директора с трудом и искажала его солидную фигуру, как искажает человека оптическая перемычка внутри кривого зеркала. Наблюдая эту гнусную картину, некоторые люди начинали понимать, что и сами они в глазах самозванца — единственного геометрически нормального, правильно усевшегося существа — выглядят примерно такими же жидкостными смещениями, и что, несмотря на всю серьезность новоявленного монстра (самые чуткие догадывались, что коллектив никогда не увидит на этой трехглазой морде ни малейших признаков улыбки), захваченная студия для нового директора есть большая, созданная для его директорского удовольствия комната смеха.