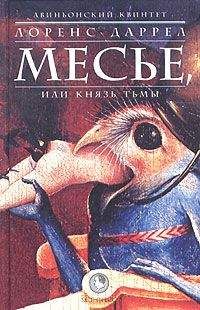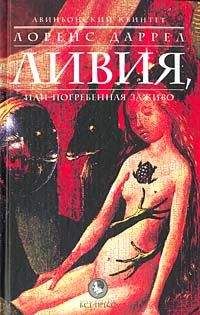Вернувшись, он увидел опустевшее кресло. Теперь больше ничего не стояло между ним и его проклятым романом. Когда реальная жизнь не предлагала ничего интересного, Сатклифф снова впадал в тягомотные раздумья, которые потом выплескивались в очередной его опус. На секунду ему показалось, будто этот выморочный, полный призраков город поблек. Поблекла сверкавшая множеством своих отражений старушка Венеция, похожая на старинную шкатулку, мерцавшая, как крылья тысячи павлинов, горевшие огнем под вечерним небом, где еще не совсем погасло солнце. Чертов роман, совсем как слепая лошадь — ходит и ходит вокруг колодца. Своего героя он мог бы назвать, например, Оукшот, и в нем не было бы ничего героического. Всю ночь он простоял бы у окна в мчавшемся на юг экспрессе «Париж-Авиньон», потому что получил телеграмму, сообщавшую, может, о смерти, может, о самоубийстве, может, об исчезновении Пиа. Ее прислал бы брат Пиа, который будто бы знал нечто, проливавшее свет на случившееся. Что именно он знал? Ладно, подумаем. Всему свое время. Портрет Трэш — прелестная терракотовая кожа, эмоциональные жесты. Когда она бывала счастлива, то широко раскидывала руки и кричала: «Спасибо, Боже!» Неужели Трэш выстрелила ей в спину, когда она спала? Да нет. Трэш, правда, насмешлива до жестокости — выпускница Колледжа Ужасов в Небраске, защитившая докторскую диссертацию по теме «Человеческая Нежность» и получившая диплом по мануальной терапии и магнетическому массажу. К черту все эти пакости. Мужчина в освещенном поезде…
«С незапамятных времен мы ездили из Парижа на юг одним и тем же поездом — длинным медлительным поездом, вытягивавшимся вереницей голубоватых огней в сумеречной дали, словно гигантский светляк. В Прованс он обычно прибывал затемно, когда полосы лунного света делали все вокруг похожим на тигриную шкуру».
Что за тип этот Оукшот? Сатклифф зевнул. Может, лучше назвать его Родни Персиммоном и сделать из него издателя, причем голубого?
Он долго лелеял свое раздражение, и если быть откровенным, отчасти им наслаждался. Потом сказал себе, что надо бы сходить в бордель и нанять там малокровную и пресную, как репа, светленькую мулатку с бумажными маками над ушами, в юбчонке, похожей на соломенную подстилку. Надо бы. Однако раздражение вскоре прошло. Венеция дергала его за рукав — горячка цветов на лотках, ветерок, вспышки солнца, которое всегда тут как тут, гигантский музей с белоснежными дворцами, дивная весна, янтарные женщины… он быстренько убедил себя, что вылечился, и сердце у него теперь невесомое, как перышко. Его больше не пугало вечернее одиночество. Ура! Одиночество! Сначала немного послоняться, потом, попозже, обед — под полосатым навесом у самой кромки иссеченной гондолами неспокойной воды. А что Оукшот заказал бы на обед? Наверное, нечто солидное, например, мелкую рыбу. В отличие от Персиммона, который только и делает, что высматривает мальчишку побойчее. Сатклиффу же хочется морской рыбки. Он сделал несколько пометок на обратной стороне меню и спросил официанта, где бы ему лучше сегодня пообедать. «Пункт первый. Ты не должен нагонять сон на читателя. Но если, Оукшот, ты похож на Брюса, скука гарантирована. Может быть, на нашего мыслителя Тоби? Нет, его не прожуешь». Сатклифф неторопливо курил и пришел к выводу, что скучает по юной даме, да-да; а ведь она могла еще много чего рассказать о детерминизме в науке и о современных трактовках причинно-следственной связи, о которой уместно вспомнить в связи с его намерениями… Хватит, слишком все это громоздко, а у тебя роман, не лекция. Что же Оукшот? Плевать на Оукшота. Стоило Сатклиффу закрыть глаза, перед ним маячила мрачная фигура в твидовом пальто, этот тип жевал сэндвич и качался из стороны в сторону в качающемся вагоне. Что же он за человек? Наверное, она сочла его неискренним и разочаровалась. А вот если бы он действительно наплел ей кучу всякой ерунды, она бы влюбилась по уши, до гробовой доски. В науке понятие масштаба… Ладно. Его внимание переключилось на юную англичанку, которая ела мидии, хватая их тонкими пальцами, и приговаривала:
"Ужасные эти итальянцы — такие грязные". Ее ущипнули за зад в vaporetto. Неплохо. Очень неплохо.
Не желая множить банальности, он стал прикидывать план первых глав. Хорошо бы назвать роман «Tu Quoque»[91] — О Боже! Ему уже слышались вопли издателя. Ну, почему бы тебе ни выбрать нормальное terre à terre[92] название, например, «Путешествие сыщика»? Блошфорд, наверняка, написал бы «Оукшот приезжает вновь» и не стал бы ничего выдумывать. Сатклифф понимал, что это безрассудство, однако роскошный город настраивал на легкомысленный лад и заставлял забыть про всякую ответственность. Пожалуй, он напишет что-нибудь модное, а если Персиммон начнет фырчать, то можно оттащить рукопись в другое место, где ее оценят по достоинству. Клянусь геморроем Лютера, molimina excretoria[93] буду стоять на своем!
При мысли о геморрое он вспомнил — опять не положил во внутренний кармашек туалетную бумагу на случай всяких неожиданностей или отсутствия бумаги в нужниках кафе. Ничего, до отеля рукой подать.
А вот шарманка, и на ней — прелестная обезьянка в шапочке с кисточками, которая отбивала такт простенькой мелодии «Solo Per Те».[94] Он и сам хрипловато помурлыкал немного, с тоской вспоминая безымянную математичку и отбивая такт вилкой. Нескончаемый калейдоскоп рыбных прилавков поражал неистовой сверкающей жизнью, на все лады подмигивавшей ему: раки, моллюски, береговички, всякие китообразные — все они бились и трепетали, стремясь вернуться в рай вонючих лагун. Тут же стоял, облокотившись на прилавок, разбойничьего вида старик, словно с картонов Микеланджело. Впрочем, если прищуриться, то его легко представить маленьким разодетым мандарином, на ксилографии раболепного японца. Цехины на ее загорелой шее плавно покачивались, как стая тропических рыб. Черт, почему она сбежала?
Уплетая рыбу, он сказал себе: а теперь «Tu Quoque» и Оукшот. Представим человека, который везде побывал и от всего устал, который всю жизнь рыскал в поисках философии и своей женщины… Хм. Женщина умерла. Но ему-то, обошедшему весь Ближний Восток, выпала-таки встреча с племенем Друза-Бинависа. Они там кормили его на листе лотоса, вроде бы, но точно был какой-то лист, и знакомили со своей верой — сплошной пессимизм, просто экстремальный. Впрочем, слова искажают суть, ибо истина не может быть ни пессимистичной, ни оптимистичной, если вдуматься. Это пришло ему в голову после знакомства с молодым александрийцем, которое произошло в Париже. Этот малый довольно забавно лепетал по-французски, верил в экзотический и малопонятный гностицизм и при этом был представителем самой печальной профессии на земле — банкиром, и, разумеется, весьма деловым человеком. Между приступами язвы, которую этот богач предпочитал лечить в Париже, он жил в Александрии и пригласил туда Оукшота. Звали его Аккад.
— Космическое зло волнует меня гораздо больше, чем финансы.
Приглашение томного человека с огромными ланьими очами заинтересовало Оукшота (Сатклиффа). «А что дальше-то? Не знаю».
Он усердно пытался вообразить человека, ехавшего в ночном поезде и державшего сэндвич. На вокзале его встретит брат жены, врач; ему что-то известно о её смерти. Или туда примчится Трэш на белом спортивном автомобиле? «Робин, солнышко, я должна тебя увидеть — ради нее». Брюса он старательно изгонял из своих мыслей: больно уж нудный, на драматическую роль не тянет. Впрочем, человек он неплохой, хоть и банальный. Пиа любила его; и на нем есть немного ее пыльцы, отчего Сатклифф тоже питает к нему родственные чувства. Все равно Брюс — редкий зануда и не может ни на что вдохновить.
Аккад настаивал на том, что вселенная обрела свой печальный статус в результате какого-то космического ляпсуса — ерунда, учитывая колоссальные масштабы, а вот поди ж ты. Всего-то ничего, ну, неосторожное слово или секундная невнимательность — со стороны Бога — но отозвалось на всей хитро сплетенной паутине. Ошибка памяти, велосипедной цепи воспоминаний, и все сломалось, изменились понятия времени и места. Человеческий мир стал преддверием ада, населенным призраками, и вселенная вступила в войну со стоящим у кормила духом преступления, духом зла, рулевым, которого толкают к разрушению низшие демоны. Вот она, работа космического правосудия, одна ошибка — и разверзлась Преисподняя. Человек стал être-appareil, être-gnome.[95] Он не смеет смотреть в лицо реальности. А гностики говорят, посмотри и заживешь другой жизнью. (Оукшот поддакнул по-филистерски и подумал, что за такие речи надо отрубать руки выше запястий). Оукшота глубоко задело это небольшое рассуждение, и ему показалось, будто оно имеет непосредственное отношение к его жизни и несчастному браку, который он носил в себе наподобие мертвого ребенка, погибшего в материнской утробе. Его манила другая жизнь; хотя новые верования не сулили счастья, нет, в них не было ничего радостного. Зато они обещали правду. Оукшот вздохнул и закурил трубку.