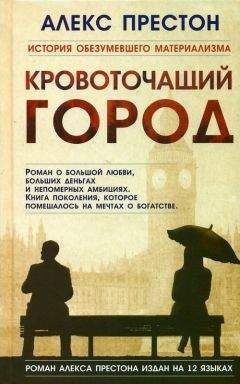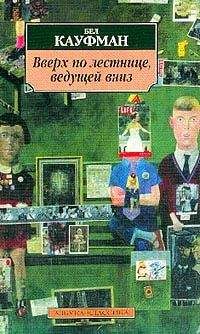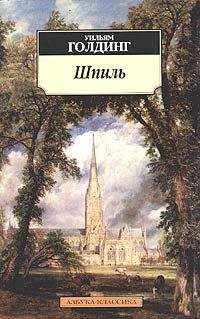— Что, если рынки не цикличны? Кто сказал, что обязательно должны быть какие-то циклы? Просто нас этому учили, вот и все. Нам предлагается верить в это потому, что так происходило когда-то в прошлом. Но если рынок и научил нас чему-то, то прежде всего тому, что прошлое будущему не указ. Потери на субстандартных залогах — это ведь нечто совершенно новое. Ни одна из существующих моделей не предсказывала такого коллапса, потому что раньше ничего похожего не случалось. Помнишь, как мы убеждали друг друга, что все будет хорошо? Почему? Потому что это следовало из моделей? А они ошибались, потому что определяли будущее на основании прошлого опыта. Но история — это всего лишь история. Что, если дальше будет только падение? Как я скажу председателю, что мы должны продолжать ту же линию на восстановление, если у меня нет в этом полной уверенности? Если я уже начинаю верить в то, что цены продолжат падение?
Она смотрела на меня умоляюще, прижав руку к щеке, и дымок сигареты быстро таял в сыром воздухе.
— А что, если так, Мэдисон? Что, если рынки обрушатся, и нас ждет коммунистическое будущее, и мы вернемся к натуральному обмену? Так ли уж это ужасно? У меня бы, мне кажется, получилось. Если эта модель цивилизации не удалась, это еще не означает, что мы все ни на что не способны. Уверен, ты преуспела бы в любой сфере. Что бы ни произошло, твой ум, твоя прозорливость, твоя энергичность останутся с тобой. Тебе лишь нужно научиться расслабляться. Не принимай все слишком близко к сердцу. Пойди к председателю и скажи, что ты передумала, объясни все плюсы и минусы продажи портфеля. Он — хороший человек. Он поймет твои доводы и будет уважать за честность.
Они втроем просидели в кабинете председателя около часа. Я вышел купить что-нибудь на обед и задержался дольше обычного, выбирая сэндвичи, а в конце концов — зная, что она по особым случаям позволяет себе такое, — взял для Мэдисон шоколадный кекс. Несколько недель назад у нее был день рождения, и вот тогда-то я заметил на ее столе кекс, а на экране поздравление от матери. Я вышел на улицу, купил букет цветов в «Мойзес Стивенс», поставил их в стакан из-под хлопьев и оставил у нее на столе. Она прислала короткое смущенное «спасибо», и больше мы этой темы не касались. Я уже возвращался в офис с пакетом для ланча, когда увидел Мэдисон и окликнул ее, но она только махнула рукой, отвернулась и, торопливо прошмыгнув мимо, выскочила под дождь. Я выбежал за ней следом.
Она перебежала улицу под сердитые сигналы такси и укрылась под деревом. Я подошел, остановился рядом и взял ее за худенькое плечо:
— Что случилось? Что они сказали?
— Она… Они…
Мэдисон повернулась и посмотрела на меня ясными глазами, но как будто откуда-то издалека. Она открыла рот, но не смогла произнести ни звука и молча шагнула в мои объятия. С минуту она так и стояла, опустив голову мне на грудь, глядя под ноги. У меня появилось чувство, что Мэдисон как будто уплывает, растворяется. Потом она заговорила — тихо, почти шепотом:
— Катрина продала весь портфель сегодня утром. Предложила по смешной цене одному инвестиционному банку. Они, конечно, только что с рукой не оторвали. Мы потеряли около ста миллионов. Мне не дали даже рта открыть. Сказали, что допустили ошибку, назначив меня портфельным менеджером. Меня так унизили, Чарлз. Разозлили и унизили. Катрина всегда меня ненавидела. Сказала, что была против моего назначения. Я чувствовала себя такой неудачницей. Я всегда думала, что рынок — это единственное, в чем я разбираюсь. И вот оказалось, что у меня и здесь ничего не получилось. Я знаю, что некрасива, с меня кожа клоками сходит, и никто не понимает почему. Я плохо одеваюсь — это ведь и про меня писал в той колонке Яннис. У меня нет бойфренда, а единственный по-настоящему близкий человек — мама. И вот теперь я не смогла справиться с единственным делом, в котором что-то понимаю.
Наверно, мне следовало бы сказать, что я ее люблю. Потому что так оно и было. Я проводил с ней больше времени, чем с кем-либо еще, ждал встречи по утрам, с удовольствием покупал ей кофе и наблюдал, как в течение дня у нее темнеют от него зубы. Мы были одной командой, мы сражались на одной стороне, и она была близким и дорогим мне человеком. Но никаких особенных слов я тогда ей не сказал. Только развернул пакет и протянул кекс, показавшийся вдруг маленьким и каким-то синтетическим в пластиковой упаковке под туманным светом в тени мокрого платана. Мэдисон взяла шоколадный маффин и убежала. Я смотрел ей в спину. Она бежала по песочной дорожке между пустыми скамейками, расставленными под плакучими деревьями. У нее был длинный и легкий шаг, и я подумал, что она отличная бегунья. Мэдисон пробежала мимо местного представительства «Порше», свернула за угол и исчезла из виду.
На работу в тот день она уже не вернулась. Новость о нашей продаже разлеталась все дальше, и рынки, соответственно, опускались все ниже. Эксперты ставили под сомнение выживание самой компании. Журналисты из новостных агентств досаждали телефонными звонками с просьбами прокомментировать последние события и слухи о возможном банкротстве. Председатель был великолепен. Отвечая бесстрастным голосом на вопросы, он приводил статистические данные, говорил о наших возможностях, о кредитных линиях, открытых крупнейшими банками, о значительных ресурсах, созданных на такой вот крайний случай. Мы с Катриной молча сидели в кабинете, пока председатель очаровывал журналистов, разговаривая на французском с обеспокоенным инвестором, а потом задержался допоздна, чтобы ответить на вопросы из редакций «Уолл-стрит джорнал» и «Барронс». Я ушел из офиса далеко за полночь. Председатель остался сидеть — сложив домиком ладони, в мягком круге света накрытой зеленым абажуром лампы. Я негромко пожелал ему спокойной ночи, и он улыбнулся в ответ, устало и добродушно, и молча поднял руку.
Когда я пришел на работу утром во вторник, рабочее место Мэдисон пустовало. Запыхавшаяся и взбудораженная, как врач, опаздывающий к постели умирающего пациента, примчалась Катрина. Примчалась и сразу включила «Блумберг» в ожидании новостей с только что открывшихся рынков. После девяти я позвонил Мэдисон. К этому времени признаки оживления были уже налицо. Власти создавали механизм для спасения ипотечных заимодателей. Ожидалось, что Банк Англии снизит ставку на полпроцента. Пресса раздула сделанные председателем заявления до размеров статей и теперь вовсю расхваливала «Силверберч» за агрессивное перепозиционирование портфеля в более надежные инвестиции. Я хотел сообщить Мэдисон, что ее прогноз оправдался, что рынок пошел вверх, что система устояла. Мобильный переключился на голосовую почту. Я попросил одну из секретарш найти ее домашний номер, набрал и слушал гудки, пока не зазвенело в ушах, после чего положил трубку.
— Где Мэдисон? Надо же, в такой день и не пришла. Похоже, припекло, а? — прошипела у меня над головой Катрина, глядя на пустой экран, в котором отражались ровные стопки файлов и аккуратно разложенные ручки на столе Мэдисон.
— Она… Она не очень хорошо себя чувствует. Думаю, поехала к матери. Будет завтра.
Возвращаясь в тот вечер домой, я с тревогой думал о Мэдисон и даже почти собрался заглянуть в ее странную квартирку на Глостер-роуд, но время шло к полуночи, у меня болели глаза, а рот противно изъязвило. Уже выйдя из метро, я позвонил ей еще раз по обоим номерам, а ложась спать, решил, что утром залезу к ней в компьютер, узнаю адрес матери, позвоню и удостоверюсь, что все в порядке. Я убеждал себя, что ей просто нужно отдохнуть и забыть на время о рынках, которые так ее подвели.
Мэдисон Дюваль опередила само время. Она предсказала кризис, когда мы все ожидали наступления века процветания. Она предвидела всплеск активности, который продлится несколько дней. Мэдисон видела скрытый от других порядок вещей, понимала сложные связи и механизмы, двигавшие миром, и даже предугадала волну самоубийств, захлестнувшую в ту осень Сити.
Мать нашла ее утром в среду. Хотя Мэдисон и перерезала вены на запястьях — представляю, с каким удовольствием она подносила лезвие к этим чешуйчатым символам предавшего ее мира, — умерла она не от кровопотери. Проглотив с десяток таблеток снотворного, Мэдисон запила их бутылкой водки и улеглась в горячую ванну. Когда на следующее утро ее мать зашла проверить, все ли в порядке, и узнать, почему дочь не отвечает на звонки, вода в ванне лишь порозовела. В какой-то момент Мэдисон вырвало — я представил зацепившийся за губы тонкий след шоколадного маффина, — после чего она соскользнула под воду, а инстинкт самосохранения задохнулся в теплых объятиях алкоголя. Я представил, как ее мать стоит над ней в этой аккуратной, чистенькой квартирке, как наклоняется, вытаскивает дочь за плечи и прижимает груди.
Перед ланчем председатель вызвал нас с Катриной к себе в кабинет. Утром я уже пытался найти в почте Мэдисон какую-то информацию о ее матери, но она сохраняла только рабочие письма и содержала почтовые ящики в таком же порядке, что и квартиру. Председатель сидел за столом с похоронным лицом, и в первый момент я подумал, что фонд идет на дно. В груди шевельнулась паника. Председатель заговорил негромко, бережно, опустив взгляд на руки в старческой гречке и коротких волосках, серебряной пылью припорошивших суставы.