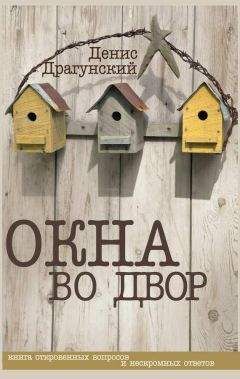Но если честно разобраться, то надобно признать, что и в редких книгах Сергей Николаевич Абрикосов разбирался не то чтобы очень. Именуя себя библиофилом, он охотился за тем, что настоящие, тертые и знающие книжники называют «пошлыми редкостями», то есть редкостями, про которые и дураку ясно, что они редкие и ценные. А настоящие драгоценности, бывало, по-дурацки прошляпливал. Была одна удачная вязка, целиком взяли потрясающую библиотеку Куманецкого из Львова, перевезенную в Москву, но почему-то осевшую в Подольске у клинического шизофреника, преподавателя текстильного техникума. Какая-то седьмая вода на киселе, книги держал в сарае, в ящиках, среди курей. Главным в этой вязке был Абрикосов, он все разнюхал, и устроил, и сделал цену, и поэтому мог выбирать первый – правда, под придирчивым контролем совместников. Ух, разгулялся Сергей Николаевич – взял весь бесподобный подбор «Альционы» и почти все по Древней Руси – остались совместникам рожки да ножки, и среди них – тридцатистраничная брошюрка некоего П. В. Виндюкова – «Граф Толстой и земельная реформа» – без года и места издания, какая-то унылая полемика и с Толстым, и с правительством. Полистал и отложил. Брошюрку ухватил Сема Козаржевский. Она стоила столько, сколько три таких библиотеки, а точнее, цены ей просто не было – в Ленинке нет, в Публичке нет, ни в каких каталогах нет, тираж был уничтожен по приказу Столыпина, типографию разгромили, корректор, утаивший экземпляр, пошел в ссылку, а самого Павла Венедиктовича Виндюкова, из младших землевольцев, повесили военно-полевым судом.
Сема подарил брошюру Ленинской библиотеке. Было в «Вечерке». Сема закопался в архивах и заключил договор на книгу «Косой дождь. Повесть о Павле Виндюкове» – для серии «Пламенные революционеры».
У Семы Козаржевского все шло в дело – так или примерно так, но с изрядной долей презрения, думал Абрикосов.
Алена действительно запоминала все, что говорил ей Абрикосов, причем запоминала сразу и намертво, и поэтому просто жаль, преступно было бы пудрить ей мозги общими рассуждениями и парадоксами. Сначала она должна была начитать какой-то необходимый массив, начиная с русской классики.
Вольные анализы и сопоставления не проходили с Аленой еще и потому, что она часто ломала абрикосовские рассуждения каким-нибудь простым фактическим вопросом – как тот самый, пошлый экзаменатор по русскому романтизму. Провинциальная дотошность. Абрикосов научил ее пользоваться справочной литературой, тем более что у него был полный Брокгауз, и Философская энциклопедия, и Историческая, и военная, и даже дипломатический словарь.
Родительскую Большую Советскую Энциклопедию он по-благородному отдал Алисе.
Научил пользоваться справочниками и прибавил, что это есть необходимейшая часть общей культуры, потому что не надо задурять голову бесконечной мешаниной фактов. Но Алена резонно возразила, что все это, наверное, так, но кое-что запоминать все-ж-таки надо. Просто знать, безо всяких Брокгаузов. Ведь она же читает и запоминает все, что он велит.
Смешно сказать, но через несколько дней Абрикосов начал специально готовиться к вечерним разговорам с Аленой. Действительно, смешно – он, выпускник филфака МГУ, эрудит, библиофил, на пятнадцать лет старше – да ее на свете не было, когда он уже читал переписку Достоевского.
Кстати, Достоевского она знала, как ни странно, довольно хорошо – можно сказать, подряд и вразбивку.
Перед сном он опрашивал ее по прочитанному. Она отвечала очень четко, но суховато, по существу заданного вопроса, а когда Абрикосов просил ее высказаться от себя, поделиться собственными мыслями, то она либо отмалчивалась, либо несла совершенную чушь. Прочитав Цветаеву и Ахматову – она очень быстро читала, – она вдруг заявила, что это все слюни и сопли, и женщинам вообще нельзя писать стихи, дико прет либо вонючая баба, либо дамочка-выпендрежница, одинаково противно, а если вдруг начнет выделываться под мужчину, то вообще тошнит. И вообще, волос долог, да ум короток, дорога от печи до порога, и не надо соваться не в свое дело. Абрикосов испуганно взглянул на нее, захотел спросить, кем она себя считает в таком разе, но на всякий случай сдержался.
После долгих ломаний и уговоров Алена согласилась взять женский халат, висевший в ванной, предварительно прокипятив его в стиральном порошке часа четыре, отчего вся квартира пропиталась сырым прачечным паром, и Абрикосов просто забоялся, что размокнут книги. И каждый вечер она командовала из прихожей отвернуться, пробегала через комнату к себе, в меньшую смежную, ночью возилась на кухне, и ничего между ними не было.
Был поточный день – то есть только курсовые лекции, и потом физкультура, – и Алена решила профилонить. Абрикосов ушел в свой Дворец Горбунова и потом по кой-каким делам, и она сидела в маленькой комнате и читала «Илиаду» в переводе Гнедича, прилежно заглядывая в примечания, в объяснения устаревших слов и мифологических понятий.
Щелкнул ключ в дверях – наверное, Абрикосыч вернулся. Несмотря на свою, как он выражался, службу, он уходил и возвращался когда хотел. Хорошая служба, мельком подумала Алена, мне бы такую… Но вставать с места или окликать его не стала, она вообще терпеть не могла прерывать начатое дело. Надо будет, сам зайдет или позовет.
Человек отряхнул ноги от снега, вошел на кухню, что-то там поделал – сквозь гекзаметры слышала Алена, – потом зашел в большую комнату. Брякнула чашка. Алена потянула носом, потому что вдруг запахло чем-то не тем, и женский голос произнес:
– Во бардак…
Алена неспешно дочитала в примечаниях про Алкиону, заложила книгу шпилькой и встала со стула – она всегда читала сидя, положа локти на стол, как школьница.
– Бардак, – подтвердила она, войдя в большую комнату.
У абрикосовского стола стояла здоровенная и довольно красивая тетка, с черными и буйными, туго уложенными волосами под норковой шапочкой, в нежнейшем кожаном на меху пальто, в лайковых сапогах, присборенно облегающих толстые и стройные ноги. Она презрительно оглядывала неубранные с вечера пиалушки и жестяные консервные крышки с окурками. Вчера Абрикосов разжился индийским чаем, и под это дело был треп с друзьями до полтретьего, заваривали прямо в чашки, чтоб покрепче, и сейчас спитой чай досыхал в пиалушках, и кислый запах вчерашних окурков мешался с нетутошними духами.
Алена вообще в доме не сорила и всегда споласкивала за собой чашку и тарелку, но так чтобы делать уборку и наводить блеск – чего нет, того нет.
– Бардак, – сказала Алена, – точно. Бардак, когда без спросу вламываются.
– А ты кто? – засмеялась роскошная пришелица.
– Алена меня зовут.
Та оглядела хилую Аленину фигуру, в великоватых серых рейтузах и вигоневом свитерке.
– Алиса Рафаиловна. – И протянула огромную смуглую руку.
– Слыхали. – Руки в ответ Алена не подала.
– Ух ты! – захохотала Алиса, тыкнув на Алену пальцем, а потом сказала: – Ты бы, Леночка, хоть бы убирала в доме, что ли, ты же вроде женщины теперь, так что давай содержи его в порядке, раз уж с таким сокровищем связалась, на шею навалила!
– Беги отсюда, – лениво сказала Алена и добавила: – Бекицер.
Она подхватила это словечко у Любки Киршинбойм, соседки по общаге. Что в переводе значит – быстренько.
Алиса растерянно замигала – так, наверное, теряется и пугается врубовая машина, наткнувшись в толще породы на нечто более твердое, чем ее стальные закаленные жвала.
– Беги, – повторила Алена. – Подлячка.
– Подлячка?! – вспыхнула Алиса.
– Подлячка, подлячка, – кивнула Алена. – Все про тебя знаю, какого человека предала, святого, доброго, настоящего человека предала, дубленками обвертелась, беги отсюда, не воняй мисдиором своим в чужом доме…
– В чьем доме?! – заорала Алиса и треснула кулаком по пианино. – А это чье? А это? – Она больно наступила Алене на туфлю, так что муаровый бантик повис на двух ниточках. – А это, а это, а это? – Она тыкала в люстру, диван и торшер, в красивый подсвечник на столе, в коврик на полу, в ворсистую подушку. – Чье? На чьи денежки, а? На чьи? – Она рванулась к книжной полке, выковырила разом академический трехтомник Плавта. – На чьи?
– Не трожь! – взвизгнула Алена. – Забирай! Забирай свою шарманку, все забирай, – она скинула туфли и зафутболила их в Алису, – и беги, не пачкай!
Алису взорвало, закрутило и понесло, она ничего не могла поделать с собой, ей даже сбоку стыдно было себя такой видеть и показывать, местечковая бабища проснулась и вспыхнула в ней, грудастая и горластая, тетя Миндля Мордковна с-под Киеву, фун Егупец, но остановиться не могла, все выложила этой дохлой шлюшонке – про этого святого шизофреника, бездарного, бестолкового, никчемного трепача и болтуна, с него радости только в койке, и то не всякий раз, ах, я сегодня заработался, мужик, тоже мне, муж на полставки, и какой при этом злой и завистливый. Добро бы в открытую злопыхал, а то весь добренький такой. Ласковенький, а внутри дерьмо бродючее, как в сортир дрожжей кинули, и в башке сортир полнейший, образованная помойка, роман пишет, читали, пытались, шизуха и бред, одни цитаты, нет, это ж с ума сойти, это ж филфак МГУ, неужели там все такие, ничего мразнее не видала, с осветителем спать буду, за осветителя замуж выйду, от осветителя детей нарожаю и тебе, кретинка, советую!