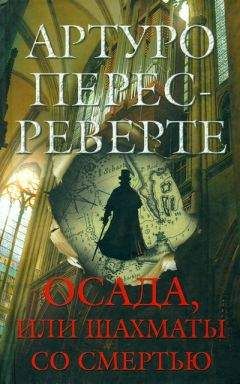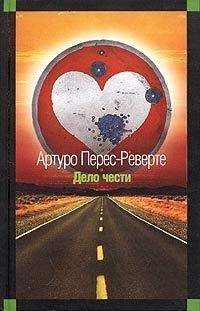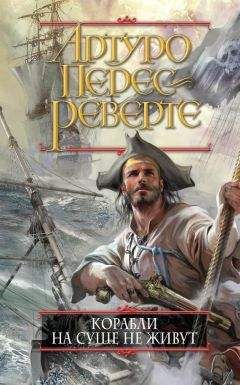— Мне она нужна мертвой, — говорит чучельник. — Без хлопот чтобы.
— Можете не сомневаться, сеньор. Все устроим в лучшем виде.
Изъяснив перед кабатчиком причину свидания, оба допивают и выходят на улицу. Направляются к эспланаде, примыкающей к крепостной стене и к морю. Подальше от нескромных ушей. В мозолистой от весел, снастей и сетей ладони Мулат держит горсть оливок. Через каждые десять-двенадцать шагов он слегка запрокидывает голову и, громко щелкнув языком и губами, далеко выплевывает очередную косточку. А в перерывах между тем, как забросить в рот очередную оливку, напевает куплетец, который с марта с большим успехом гуляет по Кадису:
Тыщи три лежат под Серро,
Души взмыли в небеса,
А француз за них в отместку
Бомбой укокошил пса.
Тон, как и слова, издевательские. И покуда Мулат с рассеянным видом оглядывает бастион и море, будто думая о чем-то другом, Грегорио Фумагаль чувствует, как нарастает в нем раздражение.
— Меня бесит эта чушь, — говорит он.
Вскинув брови, Мулат смотрит на него в деланом изумлении, лишь отчасти скрывающем нагловатое веселье.
— Но вы же в этом не виноваты, — отвечает он очень спокойно.
— А кто там в чем виноват или не виноват, тоже тебя не касается…
— Что ж, тогда приступим к делу.
— Да уж, будь любезен. Пора бы уж. Дело слишком рискованное, чтобы время попусту терять.
Контрабандист демонстративно оглядывается по сторонам. Кругом никого. В пятидесяти шагах несколько арестантов чинят подмытую морем стену.
— Ваши друзья поручили мне…
— Это и твои друзья, — сухо отвечает Фумагаль.
— Ну, это как посмотреть, сеньор. Мне они платят, если речь об этом. Сальцем, так сказать, смазывают тросы. Но настоящие друзья у меня в другом месте.
— Нельзя ли покороче? Что тебе поручили?
Мулат поворачивается вполоборота, показывая на оставшуюся позади улицу и внутреннюю часть города:
— Хотят, чтоб, когда бьют с Кабесуэлы, летело подальше. По крайней мере, чтоб дотягивались до площади Сан-Франсиско.
— До сих пор дотянуться не могли.
Контрабандист равнодушно отвечает, что его это не касается. Теперь вот, значит, такое у них намерение. Потом излагает предварительный план: новые бомбардировки начнутся через неделю, и французам нужна точная схема тех мест, куда будут падать бомбы. Ежедневные сведения, расписанные по часам, с подробными указаниями дистанции, а также того, какие разорвались, а какие нет. Хотя большая часть ядер будет без порохового заряда. Для точного замера дальности Фумагалю в качестве ориентира надо будет использовать колокольню.
— Мне понадобятся голуби.
— Обратным рейсом я привез несколько штук. Бельгийские, годовалые. Корзины — там же, где всегда.
Теперь они идут вдоль равелина Капучинос. За стеной с орудийными бойницами виднеется море: береговой урез слегка изгибается от стены, тянущейся к Пуэрта-де-Тьерра, туда, где высится недостроенный купол нового собора; а еще дальше волнообразно подрагивает в знойном воздухе полоска белого песка на перешейке.
— Когда на ту сторону? — спрашивает Фумагаль.
— Пока не знаю. Если честно, то надо бы, как у нас говорят, шкотик потравить, слабину выбрать… Каждую неделю береговая стража задерживает тех, кто желает протыриться в Кадис без пропуска. В каждом переселенце видят лазутчика, и власти держат ухо востро. И даже сунуть кому надо теперь не получается — не берут…
Еще несколько шагов они проходят в молчании мимо работающих каторжников: обнаженные, лоснящиеся от пота торсы — в шрамах и татуировках, на головы наверчено какое-то тряпье. Примкнув штыки, их без особенного рвения стерегут несколько солдат из батальона «Галисийских волонтеров» в куцых мундирчиках и круглых шляпах.
— А несколько дней назад казнили гарротой еще одного шпиона, — вдруг говорит Мулат. — Некоего Писарро.
Чучельник кивает. Он слышал об этом, хоть и без подробностей.
— Ты знал его?
— Бог миловал, — раздается в ответ циничный смешок. — Знал бы — не гулял так спокойно.
— Он разговорился?
— Что за вопрос, сеньор? Все говорят.
— Я так полагаю, в случае чего и ты меня заложишь.
Следует краткое и красноречивое молчание. Фумагаль краем глаза видит, как толстые губы его спутника складываются в насмешливую улыбочку.
— А вы меня, сеньор?
Чучельник снимает шляпу, чтобы в очередной раз промокнуть пот на лбу. Проклятье, говорит он про себя, глядя на следы краски на кончиках пальцев.
— Меня взять трудно, — отвечает он. — Я веду жизнь тихую и незаметную. А вот ты на своем баркасе плаваешь туда-сюда. И значит, рискуешь сильней.
— Все на свете знают, что я промышляю контрабандой… В Кадисе, где, сами знаете, всяк — кто не креветка, тот рак, это в порядке вещей. За такое на гарроту не пошлют… И потом… от подозрения до того, как возьмут за это место, — расстояние изрядное. Поди докажи. При мне ведь никаких бумаг, никогда. Все здесь. — Он постукивает себя по лбу. — Да, — продолжает он, — вот еще что. Наши друзья с того берега просят сведений о плавучей батарее, которую вроде бы готовят, чтоб палить по батареям в Трокадеро. И еще хотели бы узнать, что за работы такие ведут англичане на редутах Санкти-Петри, Гальинерас-Альтас и Торрегорде.
— Ничего себе, — замечает Фумагаль. — Да меня вмиг сцапают.
— Смотрите, сеньор, вам видней. Мое дело — передать. Еще их до крайности интересует, не участились ли в Кадисе случаи гнилой горячки или малярии… Полагаю, неустанно молятся, чтобы вернулась желтая лихорадка да пошла косить как косой…
— Да нет, не похоже…
Снова звучит глумливый смешок Мулата:
— Надежда, как водится, умирает последней. Да тут еще лето, жара… Большое подспорье… Начнется эпидемия — корабли перестанут возить нам припасы. И всем будет очень кисло…
— Я в это не верю. Многие переболели во время прошлогодней вспышки — так что теперь им ничего уж не страшно… Нет, сомневаюсь, что решение придет с этой стороны.
Над широкой эспланадой с криком носятся чайки, привлеченные добычей рыбаков. Жители окрестных домов, вооружась длинными тростниковыми удилищами, забрасывают их в море через бойницы, чему не препятствуют, обходя стены, одурелые со скуки часовые. Рыба, за губу поддетая на крючок, трепещет в воздухе, бьется в предсмертных мучениях, кропя каплями воды все вокруг, зевает в деревянных бадейках или в плетенных из рогожи корзинках. Солдат с ружьем на плече подойдет, посмотрит, хорош ли клев и улов, разживется у рыбака табачком или огоньком. Вопреки войне Кадис по-прежнему свято исполняет заповедь «живи и жить давай другим».
— Еще наши друзья спрашивают, — говорит Мулат, — какие разговоры ходят, о чем люди думают… Есть ли недовольные и много ли… Я думаю, по-прежнему надеются на восстание, но, по-моему, зря. Голода-то нет. А на Исле, где все гораздо хуже — там ведь и обстрелы постоянные, и фронт рядом, — армия всех держит мертвой хваткой. С ней не забалуешь.
Грегорио Фумагаль ничего не отвечает. Иногда он спрашивает себя, да не на облаке ли живут эти самые друзья с другого берега бухты? С луны они, что ли, свалились? Ожидать народных возмущений в пользу императора французов — значит совсем не знать Кадис. Здешнее простонародье так и пышет патриотическим жаром, требует воевать до последней капли крови и горой стоит за либеральное крыло депутатов. Весь город, начиная с капитан-генерала и кончая последним бакалейщиком, боится черни и льстит ей безбожно. Когда поволокли терзать губернатора Солано, никто и не подумал вступиться. А несколько дней назад, когда депутат из фракции роялистов высказался против отчуждения родовых имений, принадлежащих аристократии, какие-то горлопаны и разнузданное бабье намеревались расправиться с ним, так что пришлось под усиленной охраной переправить его на один из кораблей Королевской Армады. Вход на пленарные заседания в Сан-Фелипе-Нери в верхней одежде запрещен еще и для того, чтобы публика не пронесла под полой плаща или шинели оружие.
— Не идет у меня из головы тот бедолага, — говорит Мулат. — Ну тот, кого казнили.
Слова его повисают в воздухе, и еще шагов двадцать собеседники проходят в угрюмом молчании. Контрабандист, балансируя на длинных ногах, идет своей танцующей походочкой по самому краешку стены. На почтительном расстоянии от нее осторожными мелкими шажками движется Грегорио Фумагаль. И кажется, будто он не механически переставляет ноги, но совершает какие-то глубоко осмысленные, вполне сознательные, тщательно продуманные действия.
— Не нравится мне… — продолжает Мулат. — Не нравится представлять себе, как вот накинут на шею веревку с мертвой петлей, сделают три витка — и язык на плечо… А вам?
— Чушь не надо молоть.