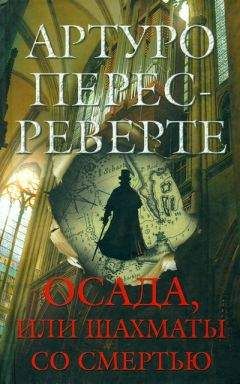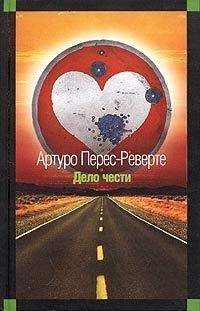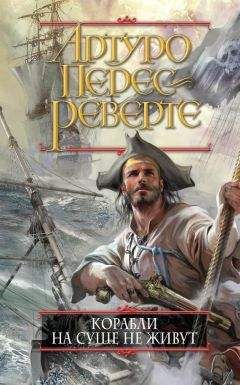— Не нравится мне… — продолжает Мулат. — Не нравится представлять себе, как вот накинут на шею веревку с мертвой петлей, сделают три витка — и язык на плечо… А вам?
— Чушь не надо молоть.
Возле бастиона «Дескальсос» им встречается веселая и шумная гурьба женщин с кувшинами воды. Одна — совсем молоденькая. Фумагаль с беспокойством дотрагивается до волос, чтобы проверить, линяет ли еще проклятая краска? Посмотрев на пальцы, убеждается — так и есть. От этого ему кажется, что он еще более неопрятен, неуклюж, нелеп.
— Я, наверно, скоро брошу это дело… — вдруг говорит Мулат. — Хватит ловить, а то самого поймают. Сказано же: «Повадился кувшин по воду ходить…» Вот пока голову не сломил, пора кончать.
Снова замолкает и, пройдя еще три-четыре шага, смотрит на чучельника:
— Неужто вы и впрямь так рискуете для собственного удовольствия? Даром?
Тот продолжает идти, не отвечая. Когда, в очередной раз сняв шляпу, он утирает пот платком, оказывается, что платок — грязный и хоть выжми. Ох и тяжкое лето обещает быть. Во всех смыслах.
— Не забудь про обезьяну.
— Что?
— Про макаку, говорю, не забудь, ост-индскую.
— А-а! Да… — Контрабандист несколько сбит с толку. — Обезьяна.
— Я пришлю забрать ее ближе к вечеру. Мертвую. Как, кстати, собираешься это делать?
Мулат пожимает плечами.
— Да не знаю… Отравы дам. Или задушу.
— Второе предпочтительней, — холодно говорит чучельник. — Есть вещества, которые пагубно влияют на сохранность тканей. В любом случае, смотри, чтобы шкура не пострадала.
— Ясно, — отвечает Мулат, глядя, как Фумагаль стирает со лба каплю темного пота.
Вечер пятницы. Натянутый на уровне верхнего этажа парусиновый полог защищает от солнца патио, где в прохладе и уюте под геранями и папоротниками в больших кадках и в горшках расставлены у мраморной закраины колодца кресла-качалки и плетеные стулья. Лолита Пальма, пригубив мараскина, ставит рюмку на маленький столик под кружевной скатертью, рядом с серебряной посудой и несколькими бутылками, наклоняется к матери, чтобы поправить подушки, которыми та обложена. Высохшая, вся в черном, в кружевной сетке на волосах, с четками на укрытых шалью коленях, Мануэла Угарте, вдова Томаса Пальмы, сидит во главе стола, как всегда, когда в настроении подняться с постели и присутствовать на ежедневной семейной вечеринке. В доме на улице Балуарте настал час визитов. Здесь Кари Пальма, сестра Лолиты, с мужем, Адольфо Соле. Здесь же и Ампаро Пиментель, вдовая соседка, за долгие годы перешедшая уже в статус родни. И Курра Вильчес с кузеном Тоньо, который неизменно в этот час — да и в любой другой тоже — появляется в этом доме.
— Сейчас такую новость вам расскажу, — говорит он, — не поверите, что такое бывает.
— У нас в Кадисе все бывает, — отвечает Курра.
Со своим обычным балагурством кузен Тоньо принимается за рассказ. Последний воинский призыв, который должен был пополнить ряды несколькими сотнями жителей из запаса первой очереди — холостых, женатых или вдовых, но не имеющих детей, провалился: из каждых десяти пришло только пятеро. Все прочие попрятались, либо загодя озаботились получением белого билета или еще какой-нибудь льготы, дающей право на отсрочку, либо записались в местное ополчение — но так или иначе от действительной службы ускользнули. Последнее сражение под Ла-Абуэрой в Эстремадуре, выигранное у французов ценой страшных потерь — полторы тысячи испанцев, три с половиной тысячи англичан убито и ранено, — никак не вдохновляет потенциальных рекрутов. Так что кортесам пришлось измыслить следующий хитроумный трюк постановить, что призыву подлежат и резервисты второй и третьей очереди, в расчете на то, что сии последние донесут властям на уклонистов из других разрядов.
— А тебе обидно, что не берут служить? — обмахиваясь веером, насмешничает Кари.
— Вовсе нет. Я бесконечно далек от желания оспаривать чьи-то бранные лавры. От службы освобожден, поскольку я — единственный сын у вдовой матери, да к тому же уплативший пятнадцать тысяч реалов.
— Ну это-то ладно… Но как быть с тем, что тетушка Кармела опочила восемь лет назад?
— Опочить опочила, но ведь пребывая в своем вдовьем статусе. — Тоньо, держа в одной руке бутылку мансанильи, а в другой — бокал, рассматривает на свет его быстро убывшее содержимое. — Вот когда пойдем отбивать у врага и возвращать нашей отчизне Херес и Санлукар — тогда зовите с дорогой душой отправлюсь воевать.
— Не сомневаюсь, там бы ты дрался как лев, — замечает Лолита.
— И правильно, что не сомневаешься. Штыком и прикладом… или чем придется отвоевывал бы пядь за пядью, погребок за погребком. А знаете ли вы занятную историйку о том, как Пепе[27] во время своего посещения одного такого заведения упал в бочку? Французы всполошились, стали кричать: «Скорей! Скорей! Спасайте короля! Бросьте ему веревку!» А он высунул голову и говорит: «Веревку не надо. Дайте хамону и сыру!»
Лолита смеется вместе со всеми. Разве что ее зять Альфонсо как будто отбывает повинность. Серьезна и сдержанна и донья Мануэла. Лишь отчужденно-снисходительная усмешка чуть трогает ее бескровные губы, и за этой гримаской проступают пять капель опиумной настойки на стакан апельсиновой воды, которые трижды в день облегчают страдания, приносимые раковой опухолью. Мануэле Угарте шестьдесят два года, и она не знает, что от болезни, медленно подтачивающей ее, спасения нет и лекарства не придумано. Знает об этом одна лишь старшая дочь, наложившая обет молчания на доктора, который поставил диагноз. Иначе нельзя. Недуг развивается медленно, конец еще не скоро; мать пока не испытывает сильных болей и жалобы ее еще можно сносить. Болезненно мнительная от природы, она перестала выходить на улицу задолго до того, как ее постигло несчастье, о котором она не подозревает; целый день лежит в постели в своей комнате и лишь под вечер, опираясь на руку Лолиты, спускается: летом в патио, зимой в гостиную — и принимает визитеров. Узкая река ее бытия заключена в берега: капризы, всеми исполняемые беспрекословно, настойка опия и неведение о том, что с нею такое на самом деле. Действие болезни так легко объясняется преклонным возрастом, усталостью, отупляющим однообразием бесцельной жизни. Мануэла Угарте уже довольно давно перестала быть женой, да и долг матери исполняла не слишком усердно, переложив все заботы о детях на плечи кормилиц, нянек, гувернанток. Лолита не помнит, чтобы мать вот так, вдруг, приласкала ее или поцеловала. Эти погасшие глаза загораются прежним блеском лишь при воспоминании о старшем сыне, о первенце и наследнике. Красавец и весельчак неутомимый путешественник, учившийся всюду, где у компании Пальма имелись партнеры: в Буэнос-Айресе и Гаване, Ливерпуле и Бордо, — Франсиско де Паула должен был возглавить семейное дело, расширить и укрепить его выгодной женитьбой на дочери видного местного негоцианта Карлоса Пауэра. Вторжение французов заставило отложить бракосочетание. Франсиско, сразу же поступивший в батальон Кадисских стрелков, 16 июля 1808 года погиб в окрестностях Андухара в битве при Байлене.
— А вспомните, что творилось, когда потребовалось укрепить Кортадуру! — говорит Курра Вильчес. — Весь Кадис месил глину, тесал камни… Все работали плечом к плечу, все были заодно… Настоящая фиеста была — с музыкой и угощением… Да, все тогда были вместе — аристократ, купец, клирик и простолюдин. Впрочем, уже очень скоро одни стали платить другим, чтобы те их заменили. Ну а под конец и вовсе выходило на работы полтора человечка.
— Решетки жалко, — вскользь замечает Кари Пальма.
Донья Мануэла — губы поджаты, на лице уксусно-кислое выражение — сухо кивает. Кортадурские решетки — больная тема в этом доме. В десятом году, когда французы стояли у ворот, Регентство не только наложило на город контрибуцию в миллион песо на нужды обороны, но еще и постановило снести все виллы и загородные дома со стороны перешейка, в том числе и собственность семейства Пальма, и без того уже лишившегося дачи в занятой неприятелем Чиклане, но и потребовало, чтобы граждане Кадиса в связи с острой нуждой в железе отдали свои решетки с дверей и окон. Семейство отозвалось и отправило узорчатую кованую калитку, запиравшую вход в патио, но доброхотный дар оказался совершенно бесполезным — линия фронта стабилизировалась под Исла-де-Леоном, укреплять Кортадуру не понадобилось, а решетки так и пропали. Дух семейства Пальма — коммерсантов до мозга костей — смущают не жертвы, которые приходится приносить ради победы, — да и что уж говорить о жертвах после смерти главы семьи и гибели его наследника! — но потери бессмысленные, зряшные, равно как и чрезмерные притязания властей и их головотяпство. Тем более что этот город жив благодаря им, кадисским негоциантам, — и неважно, есть война или нет войны.