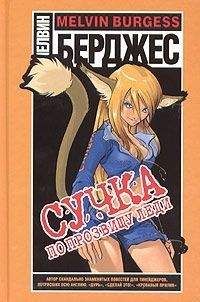Спирин пригладил залысины белесых волос, думая о чем-то, свел руки на выпуклой груди, посмотрел на Андрея, как глядят на человека, собирающегося сделать безумную выходку.
— Кто в наше идиотическое время делает такие царские подарки? Все летит вверх ногами, полетят и дармовые картины в Третьяковке. Их запросто разграбят ее работнички. Ты слышал, какой грабеж устроили в запасниках Эрмитажа? Картины уходят на Запад как по конвейеру. А вообще-то, что не оценено, в нашем диком родном капитализме считают бесхозным. В лучшем случае — безделушкой. Ты отдаешь отчет, что будет с картинами?
— Отдаю. Но сейчас картинами торговать не буду, — сказал Андрей. — Во-первых, мне надо составить опись. Во-вторых, буду скромно жить на деньги от машины. Наконец, у меня две прекрасные библиотеки — отца и деда. Одну постепенно можно продавать.
— Идеалист! — наморщил брови Спирин. — Серьезные книги плохо идут. Публика жрет глазами телевизионные сериалы. Покупают чернуху и порнуху. Каковой, надо полагать, в твоих библиотеках нет.
— Чего нет, того нет.
— Мне все ясно. Думай, Андрюша, думай. Так ты сказал: «надежды — сны бодрствующих»? Хоп, здорово сказано! Умели древние заключать слова в формулы. Творили мудрость! Кстати, когда начнешь продавать библиотеку, сообщи мне. Возможно, я куплю. Если не всю, то часть. Никаких обид. Все дружески. Будь здоров, Андрюша! — Спирин притянул Андрея, по-приятельски полуобнял его, обдав здоровым жаром крепкой, как камень, груди, договорил: — Где моя экипировка? Вроде я раздевался в передней. Завтра позвоню. И, возможно, завтра состряпаем доверенность.
Деньги были завернуты в зеленую бумагу, — увесистый сверток, в котором должно быть двенадцать миллионов, — и Андрей спросил, чтобы не показаться через меру доверчивым:
— Здесь все?
— Можешь не считать, — сказал Спирин. — Отдай покупателю ключи и секретку.
Покупатель, молодой, с круглой проплешиной человек, то и дело обнажающий улыбкой лошадиные зубы, без нужды суетливый, уже сидя на переднем сиденье рядом с Андреем, цепкой рукой подхватил ключи и секретку, проговорил вкрадчиво:
— Половину налога, уважаемый господин, возместили бы мне, было бы чудненько, по-божески, а?
— А ну верни ключи, букашка! — приказал Спирин властно. — Тебе не машину, а ишаков покупать. На кой хрен тебе возмещение? Не доволен?
— Чего вы, Тимур Михайлович? — завертел стриженой головой лошадинозубый, и Андрей увидел его испугавшиеся глаза. — Я так, к слову. Доволен я, как нельзя доволен.
— То-то. Самоисправление — это самоусовершенствование, понял, купец-удалец? — тем же тоном сказал Спирин. — Сиди и молчи, как три дурака на свадьбе.
— Молчу я, молчу. Что вы…
— Все! — завершил Спирин. — Машина приобретена. Документы оформлены. Деньги получены. Ключи отданы. Шампанское пить не будем. Меня — до Калининского, Андрея Сергеевича — куда скажет. Поехали.
Всю процедуру «продажа-купля» Андрей просидел в пока еще своей машине, на стоянке напротив конторы нотариуса, где оформлением занимались Спирин и лошадинозубый молодой человек. Андрей потребовался на полминуты поставить подписи, после чего Спирин с внушительным видом сказал: «Дальше ты здесь не нужен, покури в машине, помечтай», — и похлопыванием по спине выпроводил из конторы. Все оказалось гораздо проще, чем он ожидал. Все было сделано в течение часа. Он не подозревал, что Спирин обладает неотразимыми способностями, обладающими чем-то вроде внушения.
«Не может быть, чтобы Чечня сообщила ему такой опыт, — думал Андрей, когда новый владелец машины включил зажигание и плавно, проверяя мотор, начал разворачиваться от нотариальной конторы. — Странно: я заметил, что все служащие в конторе смотрели на него с робостью… Боялись они его, что ли?»
До Калининского проспекта ехали молча. Не доезжая до «Казино», лошадинозубый владелец машины заерзал, заискивающе обернул к Спирину стриженную под ежик голову.
— Где остановить, Тимур Михайлович?
— Возле, — приказал Спирин, не поясняя, где это «возле».
«Они знают друг друга, но почему-то Спирин очень резок с ним», — подумал Андрей и услышал добродушный голос Спирина:
— Ты вот что, Андрюша. С панталыку не пропадай. Найдем купца и на «конюшню». Возьмем не меньше трех тысяч баксов. Гараж ведь тебе не нужен. Ну будь здоров!
Машина затормозила неподалеку от «Казино», под огромной рекламой «Мальборо» с соблазнительно выдвинутой из пачки сигаретой. Андрей не успел ответить, так как в эту минуту не думал о продаже гаража, Спирин тиснул ему локоть («перезвонимся») и, ловко выхватив свое плотное тело из машины, хлопнул дверцей.
— Ох, силен, — выговорил лошадинозубый, провожая завистливым взглядом борцовскую фигуру Спирина, шагающего по тротуару раскачкой.
— Вы хорошо знакомы? — спросил Андрей, не намереваясь спрашивать о том, что было явным, и добавил с опережением ответа: — Впрочем, понятно. Меня на Большой Гнездниковский, если не трудно.
«Почему я сказал Большой Гнездниковский? Я не мог себя пересилить, не мог позвонить после той нелепой встречи. И она тоже. Нет, я не могу прийти к ней, как будто ничего не произошло… Так зачем же я назвал Большой Гнездниковский?»
— Чего это вы, а? Головка болит? Не с перепою ли?
— Что? — Андрей глянул на водителя. Лошадинозубый растянул губы изображением улыбки.
— Чего-то вроде застонали вы. Машину никак жалко? А?
— Чушь!
— Двенадцать «лимонов» в карманчик положили — тоже не презерватив купить, ха-ха! Не двенадцать штук баксов, а все ж!..
— Давайте-ка помолчим. Вы — владелец машины. И все между нами закончено.
— То-очно. Я — кобыла моя…
Но все между ними было закончено, когда с солнечной многолюдной Тверской въехали через арку в Большой Гнездниковский переулок, узкий, прохладно покрытый тенью, и остановились перед старым многоэтажным домом с полукруглыми эркерами, еще не по-осеннему блещущими стеклами на верхних этажах. Андрей вылез из машины, в знак прощания приложил два пальца к виску:
— Привет. Надеюсь, больше не встретимся. Счастливо ездить!
— А кто ё знает! — откликнулся тот по-приятельски. — А может, и свидимся!
— Думаю — нет.
— Бывает, и старушка рожает. О'кей!
Он развернул машину и через арку, наполненную солнцем, выехал на Тверскую.
Сверток с деньгами, плотно втиснутый в карман, давил на грудь, и, может быть, потому, что ему не понравился лошадинозубый покупатель, или потому, что стало вдруг жаль потери, словно бы живого существа, с которым был связан несколько лет, облегчения от продажи не было.
Он стоял на тротуаре перед домом и смотрел вверх, на окна, горящие на сентябрьском солнце, влюбленный мальчишка под окнами возлюбленной.
В одну из бессонных ночей после смерти деда ему представилось в полузабытьи, что они сидели в ее комнате перед раскрытым окном, и он на какую-то секунду взглянул на нее, готовясь спросить что-то страшное для себя и для нее, и сразу сбилось дыхание, а она откусила кончик нитки, опуская голову к какому-то шитью. Смеясь от страха, он еле выговорил: «Я люблю вас». Она посмотрела на него изумленными глазами и медленно спросила непонятое им: «Джинн — гений добрый или злой?»
Он не знал, что ответить ей, и потом все утро искал ответ, не в силах угадать, что она хотела спросить, какое отношение к его словам имел джинн.
«Почему джинн? Что за джинн? Из восточных сказок? Что за чертовщина?» — думал Андрей, весь перетревоженный воспоминаниями сна, и необъяснимо зачем стоял перед домом Тани в уже пахнущем осенью переулке, тесно заставленном вдоль тротуара машинами.
И ругая себя за отсутствие воли, за половинчатость, он дошел до арки на Тверскую, оглушенный ревом непрерывного металлического скопища машин, толчками ползущих в сторону Пушкинской площади, потом вторично повернул в тихий переулок, дошел до противоположного конца, и на углу, возле автоматной будки, возникла мысль позвонить Тане, сказать лишь два слова: «Здравствуйте, Таня», — и, услышав ее голос, повесить трубку. В сущности, нейтральное «здравствуйте» ни к чему его не обязывало, только прозвучало бы по телефону чересчур по-мальчишески.
Ее колющая холодком, запомнившаяся фраза в ресторане: «Если найдешь нужным, позвони» толкала его в вечернем одиночестве к телефону, он набирал ее номер, но сейчас же бросал трубку, заслышав свободные гудки. Он не мог переступить через то чувство горчайшего разочарования и ревности к детской безгрешности Тани, на самом деле не такой уж искренней, не такой нерасчетливой, как увиделось в тот неудачливый день, запомнившейся ему пшеничной золотистостью длинных волос и незавершенной в уголках губ улыбкой, предназначенной всем.
«Не понимаю, почему в ресторане она перешла на «ты»? Что здесь было — игра?»