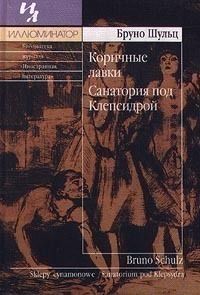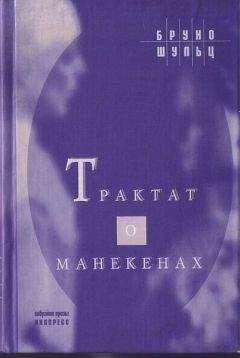Вестибюль, погруженный в скуку поздних часов, словно вокзальные залы ожидания спустя время после отхода поезда, порой казался последним фоном бытия — тем, что останется, когда прейдут все события, когда исчерпается гомон веселья. На большой цветной афише Аста Нильсен пошатнулась с черным стигматом смерти на лбу, рот ее раз навсегда открылся в последнем крике, а глаза неправдоподобно распахнулись и были невозможно прекрасны.
Кассирша давно ушла домой и сейчас в своей комнатенке наверняка возилась возле расстеленной постели, как лодка, ожидавшей ее, чтобы унести в черные лагуны сна, в перипетии приснившихся похождений и приключений. Та, что сидела в будке, была всего лишь оболочкой, призрачным фантомом, взирающим усталыми ярко накрашенными глазами в пустоту света, бессмысленно трепещущим ресницами, чтобы стряхнуть обильно летящую с электрических ламп золотую пыль спячки. Порой она бледно усмехалась сержанту пожарной охраны, который, сам давно избытый собственной реальностью, стоял, прислонясь к стене, навеки замерший в сверкающей своей каске, в бессмысленной безупречности эполетов, серебряных шнуров и медалей. Поодаль, заодно с мотором, дребезжали стекла дверей, выходящих в позднюю июльскую ночь, но рефлекс электрической люстры стёкла слепил и ночь отрицал, сколько возможно латая иллюзию тихой пристани, упасшейся от громадной ночной стихии. Очарование ожидальни в конце концов обречено было исчезнуть — стеклянные двери отворялись, красная портьера воздымалась дыханием ночи, становившейся вдруг всем на свете.
Постигаете ли вы тайный и глубокий смысл приключения, когда хлипкий бледный выпускник одиноко покидает сквозь стеклянные двери тихую пристань ради безмерности июльской ночи? Преодолеет ли он когда-нибудь черные эти топи, трясины и бездны необъятной тьмы, достигнет ли в какое-то из утр безопасную гавань? Сколько десятилетий продлится черная эта одиссея?
Никто не составил еще топографии июльской ночи. В географии внутреннего космоса страницы эти пока пусты.
Июльская ночь! С чем бы сравнить ее, как описать? Сравню ли ее с внутренностью огромной черной розы, осеняющей нас стократной грезой тысячи бархатных лепестков? Ночной ветер до глубин раздувает ее пышность и на благоуханном дне достигают нас очи звезд.
Сравню ли ее с черным небосклоном наших сомкнутых век, полным странствующих пылинок, белого мака звезд, ракет и метеоров?
А может быть, сравнить ее с долгим, как мир, ночным поездом, влекущимся по бесконечному черному туннелю? Идти сквозь июльскую ночь — это с трудом пробираться из вагона в вагон, между сонных пассажиров, по тесным коридорам, мимо душных купе и в пересекающихся сквозняках.
Июльская ночь! Тайный флюид мрака, живая, чуткая и беспокойная материя темноты, без устали создающая что-то из хаоса и каждый образ тотчас отбрасывающая! Черный строительный материал, нагромождающий вокруг сонного странника пещеры, своды, углубления и ниши! Как болтливый надоеда сопутствует она одинокому этому страннику, окружая его кольцом своих видений, готовая бредить, выдумывать, фантазировать, вымерещивая впереди звездные дали, белые млечные пути, лабиринты нескончаемых колизеев и форумов. Воздух ночи, черный этот Протей, творящий забавы ради бархатные сгустки, шлейфы жасминного аромата, каскады озона, внезапные безвоздушные глухомани, раздувающиеся, словно черные пузыри в бесконечность, громадные виноградные грозди тьмы, налитые темным соком. Я проталкиваюсь меж тесных этих проемов, сгибаюсь под низко нависшими арками и сводами, и тут потолок вдруг срывается, со звездным вздохом отворяя на мгновение купол бездонный, чтоб сразу зажать меня снова тесными стенами, проходами, проемами. В этих затаивших дыхание укромных уголках, в этих заливах темноты не исчезли еще обрывки разговоров, оставленные ночными путниками, фрагменты афишных надписей, утерянные такты смеха, струения шепотов, не развеянные дуновением ночи. Порою ночь запирает меня как бы в тесной комнате без дверей. На меня нападает сонливость, и я не возьму в толк, на ногах ли я еще или давно лежу в гостиничном этом номеришке ночи. Но вот ощущаю я бархатный жаркий поцелуй, потерянный в пространстве благоухающими устами, отворяются какие-то жалюзи, высоким шагом я преодолеваю парапет окна и длю скитания под параболами падающих звезд. Из лабиринта ночи выходят два путника. Оба болтают ни о чем, волоча из мрака нескончаемую и безнадежную косицу разговора. Мерно стучит в мостовую зонт одного из них (такие зонты берут с собой на случай дождя звезд и метеоров), они идут как пьяные, большие головы их в пузатых котелках. Еще меня в какой-то момент на миг останавливает конспиративный взгляд черного косящего глаза и большая костистая рука с выпирающими желваками ковыляет сквозь ночь на костыле трости, сжимая набалдашник из оленьего рога (в таких тростях, как правило, спрятаны длинные тонкие шпаги).
Наконец на городской черте ночь прекращает свои затеи, сбрасывает покровы, являет значительный и вечный лик. Она уже не замуровывает нас в призрачном лабиринте галлюцинаций и видений, она отворяет перед нами звездную свою вечность. Небосвод растет в необъятность, великолепные созвездия сверкают в извечных положениях, образуя в небе магические фигуры, как если бы хотели что-то благовестить, объявить своим жутковатым молчанием о чем-то роковом. Из далеких этих мерцающих миров доносится лягушачий хор, серебряный звездный говор. Июльские небеса сеются неслышными песчинками метеоров, тихо вбираемыми вселенной.
В некий ночной час (созвездия сновидели на небе свой вечный сон) я снова оказался на нашей улице. Какая-то звезда стояла в ее створе и пахла незнакомым запахом. Когда я отворял входную дверь, вдоль улицы тянуло сквозняком, как по темному коридору. В столовой был свет, четыре свечи чадили в бронзовом канделябре. Мужа сестры еще не было. Со времени ее отъезда он стал опаздывать к ужину, являлся далеко заполночь. Просыпаясь среди ночи, я, случалось, видел, как он, с тупым и задумчивым взглядом, раздевается. Потом он гасил свечу, раздевался донага и долго лежал без сна на холодной постели. Не сразу сходила к нему беспокойная дрема, постепенно побеждавшая его большое тело. Он что-то бормотал, сопел, тяжко вздыхал, боролся с какой-то тяжестью, навалившейся на грудь. Иногда же вдруг всхлипывал тихим сухим всхлипом. Испуганный, я спрашивал в темноте: — Что с тобою, Кароль? — Но он уже брел дальше по тяжкой дороге сна, старательно карабкаясь на какую-то крутую гору храпа.
Сквозь отворенное окно медленными толчками пульса дышала ночь. В ее большой несформировавшейся массе переливался прохладный душистый флюид, в темных ее глыбах ослаблялись связи, сочились тонкие ручейки запаха. Мертвая материя темноты искала освободиться во вдохновенных взлетах жасминового аромата, но недостигнутые массы в ночных глубинах были всё еще неосвобождены и мертвы.
Дверная щель из соседней комнаты светилась золотой струной, звучной и чуткой, словно сон младенца, хныкавшего там в колыбельке. Оттуда доходил ласковый щебет, идиллия мамки и ребенка, пастораль первой любви, любовных мук и капризов, отовсюду осаждаемая демонами ночи, которые сгущали тьму за окном, приваженные теплившейся тут теплой искоркой жизни.
По другую сторону к нашей комнате примыкала комната, пустая и темная, а за ней была спальня родителей. Напрягши слух, я слышал, как отец мой, прильнувши к груди сна, в экстазе позволял нести себя в воздушные его пути, всем существом отдаваясь далекому полету. Мелодическое его и отдаленное храпение излагало перипетии всего странствия по неведомым бездорожьям сна.
Так постепенно входили души в темный апогелий, в бессолнечную сторону жизни, облика которой не видел никто из живущих. Они лежали, словно мертвые, страшно хрипя и плача, между тем как черное затмение глухим свинцом возлегло на их духе. А когда миновали они, наконец, черный надир, бездонный этот Оркус душ, когда преодолевали в смертельном поте его удивительные мысы, мехи легких опять начинали наполняться другой мелодией, воздымаясь вдохновенным дорассветным храпом.
Глухая густая тьма давила землю, ее туши лежали забитыми, как черная неподвижная скотина с вывалившимися языками, точащая слюну из бессильных пастей. Но какой-то иной запах, какой-то иной цвет темноты провозвествовал далекое приближение рассвета. От как бы отравленных ферментов нового дня темнота распухала, как на дрожжах росло фантастическое ее тесто, колыхалось формами помешательства, ползло изо всех корыт и дежей, кисло в спешке и панике, чтобы рассвет не застал ее врасплох за столь развратной плодовитостью и не пригвоздил навеки этих буйных больных, этих уродливых чад самозарождения, выросших из хлебных кадей ночи, словно демоны, купавшиеся парами в детских ванночках. Это минута, когда на самую трезвую и бессонную голову на какое-то мгновение опускается сонный морок, и больные, растерзанные и очень печальные обретают недолгое успокоение. Кто знает, как долго длится минута эта, когда ночь опускает занавес на происходящее в ее безднах, но короткого антракта достаточно для перестановки декораций, для удаления огромной машинерии, для ликвидации великого спектакля ночи со всею ее темной фантастической помпезностью. Пробуждаешься устрашенный, с ощущением, что вроде бы на что-то опоздал, и в самом деле видишь на горизонте светлую полосу рассвета и черную консолидирующую массу земли.