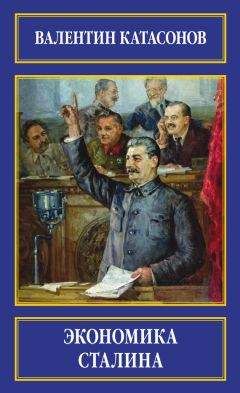До приезда бабушки оставалось несколько вздохов. Я вышла к мусоропроводу и, усевшись на стопку перевязанных бечевкой газет, смотрела вниз. По дорожке вдоль дома проходили знакомые люди. Некоторые сворачивали в наш подъезд, исчезали под козырьком. Тут же раздавался шум поехавшего лифта. И тут меня осенило.
Я встала, взяла кипу газет, перетащила их в лифт и… подожгла: бабушка не сможет подняться по лестнице! Бумага разгорелась быстро. Довольно скоро бледно-синее пламя начало облизывать пластиковые стенки. Возле лифта становилось жарко, повалил вонючий дым с черными хлопьями. Я спустилась вниз, вышла во двор и спряталась за будку вторсырья. Из моего укрытия подъезд просматривался хорошо. Знакомые люди продолжали возвращаться с работы. Моего командора видно не было.
Вскоре на финишной прямой показалась неповоротливая пожарная машина. Спокойно, без истеричной сирены остановилась. В подъезд побежали пожарные. Я тоже побежала, только в другую сторону. Долго бродила по неизвестным дворам…
Когда вернулась, пожарные уже уехали. На лестнице пахло едкой гадостью. В квартиру запах не пробрался. Бабушка подъехала часа через полтора — уставшая и довольная. Она простояла в ГУМе за сапогами и теперь, сняв с коробки крышку, любовалась своей покупкой — черными кожаными сапогами австрийской фирмы «Хёгель». Бабушка отвернула голенище, тронула ладонью блестящий шелк меха.
— Ну как, нравится? — поинтересовалась она.
Я пожала плечами:
— Боты как боты…
…К нам в школу забегали греться бродячие собаки. Две или три, точно не скажу. Собаки были собаками в полном смысле слова: едва сторож распахивал двери, они деловитым гуськом прошмыгивали в тепло и почему-то бежали на второй этаж, где учились начальные классы. Там они, прошу прощения, жидко гадили и, спустившись по другой лестнице, покидали заведение до следующего утра. Завуч ежеутренне накрывала дерьмо тетрадным листочком, на котором учительским почерком было написано «осторожно!», и наказывала сторожу собак «не пущать». Сторож сбивчиво клялся. На следующий день все повторялось.
А еще в школу наведывался художник. Он приходил через ту же дверь, что и собаки. На пустой стене рисовал былинно-патриотическую картину. Работу начинал рано, до уроков, а потому засек собак «в процессе». Первым делом он смачно врезал животным под хвост — ничто не должно мастеру мешать. Разложил краски, добыл у завхоза стремянку.
Творил он месяца два. После него остался громадный — от плинтуса до потолка — Иван-царевич в алых сапогах, летящий ковер-самолет, русалочка, свернутая в элегантную спираль и другие персонажи, включая золотую рыбку где-то в ногах у ундины. Чтобы как-то сгруппировать общую хаотичность, через весь рисунок была пущена волнистая надпись: «Сказка станет былью!»
Насчет сказки не знаю, а вот рассказы наши к тому времени уже не сочинялись столь быстро и легко, как в начале. Настал период, когда мы сперва думали, а уж потом записывали.
Мы шли по улице с моим приятелем. Из-за поворота показался Мишка Цой. Цой был полукореец-полуеврей, отличался невероятным умом. На всех днях рождения он сидел в углу с книгой и не отрывался на возню со смехом и визгом. Мне он казался пожилым человеком.
Существование Цоя было спартанским. Мама приглашала в гости мужчин и на это время выгоняла сына на улицу. У них в квартире вместо дивана была циновка, на полу лежали апельсинового цвета мохнатые подушки, которые Цой перед приходом маминого хахаля обязан был начесывать массажной щеткой. С началом школы мама определила его в китайский интернат.
Мишка поравнялся с нами, сказал «привет» и остановился.
Цой вызывал во мне брезгливость. Он был тоненький и жалкий, как халат из секции уцененных товаров. Мама отправляла его гулять в варежках, которые сели от стирки и не могли закрывать руки как следует. Между манжетами куртки и варежками виднелись замороженные запястья с цыпками. Один раз я видела, как Цой грел замерзшие пальцы во рту.
— Цойка, ты смотрел сегодня мультики? — спросил мой дружище.
— Я не мог. Я должен прийти домой не раньше семи.
Мы помолчали. Потом Мишка, боясь, что мы попрощаемся и он опять останется скучать, сказал:
— А вы знаете, кстати, что в китайском языке нет точки? Точки нет в конце предложения.
— Не ври! — строго предупредил дружище.
— Я серьезно, — Цой сверкнул черными глазами. — Вместо точки там ставится кружок…
— А вместо слов что?
— Значки такие, иероглифы называются. Ни одной буквы, только иероглифы! — Цой был рад возможности кого-то удивить и слегка надулся от гордости.
— Как же они тогда читают? — спросила я.
— Так и читают, берут иероглифы и все понимают.
— Не ври! — мой дружище едко прищурился. — Если у них нет букв, как же они тогда телеграммы по телеграфу передают?
Я не услышала ответа Цоя, потому что в этот момент откуда-то сверху, почти с небес, обрушился громовой голос отца:
— Немедленно поднимись ко мне! — Я запрокинула голову. Папа стоял на балконе и рукой делал движение, как будто подгребал меня к себе. Я пискнула приятелям «пока» и пошла к подъезду.
В квартире отца сгущалась грозовая атмосфера. Малиновые обои и светильник из медных лент несказанно ее усиливали.
— Сядь, — коротко скомандовал он.
Я села кончиком задницы на краешек кресла.
— Как следует сядь!
Я задвинулась поглубже. Ноги повисли над полом.
— Объясни, для чего ты это сделала?
— Что?..
— Подожгла лифт?
— Я больше не буду.
— Ты слышала вопрос?
— Да.
— Отвечай!
Беда в том, что я не могла назвать причину. Она вдруг вылетела из головы вместе со связными словами. Я лепетала что-то очень жалкое, путалась в слезах и соплях. Отец ругался, как умел это делать только он один. Он дробил меня на части, стирал в порошок, пыль снова собирал вместе, чтобы затем жечь меня на медленном огне. Я переплавлялась, охлаждалась, несколько раз за время разговора умирала и воскресала.
Это был катарсис что надо.
Придя домой, я не написала ни одного рассказа. Послонявшись по квартире, я набрала папин телефон и спросила:
— А как ты узнал, что это я?
— Кроме тебя, счастье мое, некому это сделать, некому. Кстати, ты по дороге домой ничего не спалила?
На спине тут же возникли мурашки…
…Мама собиралась в театр. Процесс превращения ее в театральную зрительницу — само по себе зрелище. На кровати вдруг появляется красивое платье. Мама доделывает последние хозяйственные дела. Платье и мама пока автономны, но их тонкая связь уже чувствуется.
Мне представляется, что самолет готовится к старту. Вот он медленно катится по рулежной дорожке: в сумочку кладется пудреница, носовой платок, бинокль… Вот он подбирается к взлетной полосе: мама начесывает прядь за прядью, легкими касаниями придает пышным волосам форму… рисует стрелки на веках… пошел запах духов… Ответственный момент, в турбинах слышится гул: два силуэта сливаются в один — мама надевает платье… Самолет развернулся к старту… Мама подходит к зеркалу, загадочно улыбается. Все! Выражение лица больше не меняется. Лайнер разогнался, поджал шасси, и начался полет.
Квартира наша после ухода отца имела вид полуказенного помещения. Сувениры, вазочки, керамические подсвечники и прочие уютные безделушки сгинули в период развода. Оставшиеся крупные предметы имели только функциональное назначение, как в гостинице: кровати, накрытые скользким бежевым покрывалом с веревочными косичками по бокам, вешалка с четырьмя крючками, на одном из которых висела моя пестрая шуба и варежки на длинной резинке… Нециклеванный пол, тусклое освещение…
Мама ушла в оперетту, заполненную светом и яркими костюмами. Я включила телевизор. Он разогрелся, на серо-голубом экране появилась мощная, как Днепрогэс, певица. Казалось, что у нее в горле прорвало плотину…
Выключив телевизор, я взяла флейту, встала перед зеркалом и заиграла. Мне вдруг почудилось, что перед глазами дымчато-яркий свет, а сама я — на сцене, окантованной рампой. Передо мной — партер, переходящий в амфитеатр и стиснутый по бокам ложами бельэтажа. Зал ахает и аплодирует. Я кланяюсь и играю на бис.
Я побежала на кухню, зачерпнула из кастрюли горсть винегрета и натерла щеки. Зрители рукоплескали, я стояла красная и счастливая. Но тут зазвонил телефон,
— Здравствуй, — незнакомый мужской голос назвал меня по имени. — Позови, пожалуйста, маму.
— Ее нет, она в театре.
— А папа?
— А папа теперь живет в другом подъезде. Могу дать его телефон. Вы чей знакомый, мамин или папин?
— Мамин, — торопливо ответил голос. Казалось, он расстроился.
— Что ей передать?
— Пожалуй, ничего. Я хотел на нее посмотреть, как раз еду мимо.