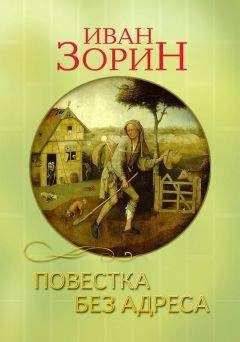Раз у него сдали нервы, и он влепил приёмной дочери пощёчину. Та убежала из дома. Две недели Нугзар ездил по районным подворотням, притонам, сутенёрам. «Срок вышел, — сказали в милиции, — готовьтесь к худшему». У Нугзара опустились руки. А нашли её у дальней родственницы. О своих приключениях молчала. Но было видно, что пришлось нелегко.
У Нугзара в машине обрез. Работа ночная, всякое случается. А недавно на него напала группа молодых таджиков с ножами. Порезали. И он двоих порезал. Если бы не подоспевшие шофёры, убили. Нугзар два месяца провалялся в больнице. У него часты сердечные приступы. «А кто будет семью кормить?» — отказывается он от санатория.
У отца не было жены. Во всяком случае, он никогда о ней не рассказывал. А сын не хотел заставлять его врать про аиста с капустой или родильную горячку, от которой умерла мать. Он подозревал, что мать бросила их. Как бы там ни было, отец стал для него всем. И сын не жалел. Он не помнил, как отец качал зыбку, напевая себе под нос, не помнил, как кормил его, разогревая овсяные хлопья, а потом горбился за столом, наблюдая, как море за окном запускает в небо солнечный диск. Самые ранние воспоминания у сына были связаны с садом, в котором пахло яблоками. Отец сидел тогда на террасе, присматривая, как он ловит сачком бабочек. Вокруг пели птицы, его панама тонула в густой траве, а восклицания сливались со стрёкотом кузнечиков. Казалось, так будет вечно, казалось, не будет конца этому светлому летнему дню. И вдруг набежала тучка, и сын будто укололся о розовый куст. На мгновенье он осознал, что придёт время, и его не станет: всё вокруг — солнце, деревья и мир пребудут, а он исчезнет неведомо куда, как исчез только что раздавленный жук.
От ужаса сын не мог даже плакать. Он застыл посреди разнотравья, растерянно вцепившись в рукоять сачка.
Отец прочитал его мысли.
«Этого не случится, — положил он на его темя тёплую ладонь. — Пока ты сам не захочешь».
И сын поверил.
Жили они замкнуто, редко приглашая чужих в дом на городской окраине с двускатной крышей и низкой кирпичной трубой. Ребёнок был поздним, на таких изливают жаркую, нерастраченную любовь, такие становятся светом в окошке. А сын не понимал, что может быть по-другому. Его мир населяли теснившиеся в отцовской библиотеке книги, огромный сенбернар с вислыми ушами и жёлтая канарейка, беспрестанно щёлкавшая в клетке под потолком. Ему казалось, он понимает её песни, подсыпая зерна, сын цокал в ответ языком, посадив на ладонь, гладил мизинцем по крохотной головке. А бывало, разъезжал верхом на сенбернаре, заливался радостным смехом, повизгивая, как щенок. Но овладеть речью не мог. Врачи объясняли это очажком, который сложился в одном из мозговых полушарий. «Немота, как запруда, — говорили они, закрывшись в отцовском кабинете. — Чтобы её прорвать, нужно потрясение».
Но отец не хотел рисковать.
«Бог слышит мысли, чёрт — слова, — успокаивал он сына, гладя его шёлковые кудри. — Слова только уводят от истины…»
В первые годы приходила седая, надутая бонна, учила складывать слоги из кубиков, не горбиться за столом, пользуясь ножом с вилкой там, где можно управиться руками. А потом она исчезла.
— Вы уродуете его! — доносилось сквозь плотно прикрытые двери. — Он же не растение — распахните, наконец, оранжерею!
— Мир ужасен, — басил отец. — Нам ли не знать?
Бонна шипела об испорченном детстве, убеждала, что ребёнка надо готовить к жизни, а не растить Обломова. Но отец оставался глух. Под конец она хлопнула дверью, не дожидаясь, пока на неё укажут. Нанимали и другую — англичанку в буклях. Она пыталась установить свои правила, при каждом удобном случае рассказывая, как воспитывают у неё на родине.
И однажды отец не выдержал.
— У вас и язык-то собачий! — взорвался он. Англичанка недоумённо вскинула брови. — Конечно, собачий, — стоял на своём отец, — недаром, по-вашему «бог» наоборот означает «пёс».
— Русские вечно всё выворачивают, — нашлась англичанка, собирая чемодан. — За это вас и ненавидят…
Учителей больше не приглашали. Отец сам занялся воспитанием. Он рассказывал про моря, в которых соли больше, чем песка на дне, объяснял, почему ревёт бегемот и молчит камень. Они вместе ползали на коленях, расстелив на полу старинные карты, разбирали монеты, которыми вместе с небылицами расплачивались в исчезнувших портах моряки. «Когда-нибудь ты станешь моим помощником, — мечтал отец, развалившись в гамаке. — Но для этого нужно много учиться».
И сын впитывал всё, как губка.
«Отец был слишком строг, — будет жаловаться он жене. — Моё детство отдавало казармой».
Зимы на юге тёплые, и всё же деревья просвечивали насквозь. На прогулке, топая по лужам резиновыми сапожками, сын обходил сад, в котором знал каждый куст, припадая к решётке, жадно слушал, как шумит море, считая круживших в небе чаек. Вся его жизнь подчинялась строгому, давно сложившемуся распорядку, каждое действие имело причину, каждое «как» объяснялось «зачем». Отец, хорошо помнивший себя ребёнком, упреждал его желания, объясняя, к чему они приведут.
Однако порой сыну делалось невыносимо скучно, на сердце вдруг накатывала странная тоска. Он не понимал этого чувства, ведь ему не с чем было сравнивать. Закрывшись в детской, он молился, и тёмная минута отступала. Но отец о чём-то догадывался. Однажды он привёз пару павлинов — те распускали хвост, кричали неземными голосами — и ребёнок смеялся.
Отец был художником. Каждый день сутулился за мольбертом, однако картин не продавал. Откуда брались деньги, одному богу было известно.
— Из ящика, — отшучивался отец, не любивший, когда суют нос.
— А в ящике? — не удержался раз знакомый.
— Я кладу, — отрезал отец.
— Ну, а у вас-то откуда?
— Я же сказал — из ящика…
Однако деньги не переводились, казалось, отец не подозревает о мелких купюрах.
Когда вдохновение уходило, отец ходил мрачный. Забыв о сыне, он жертвовал их занятиями. И сын ревновал к краскам.
— Я не предавал тебя, — оправдывался отец, — когда вырастешь, поймёшь, что значит быть художником.
— И что же? — грыз заусенцы сын.
Но отец не раскрывал карт.
Вечерами читали Библию. «Грех, как грязь, — ворочался в кресле отец, — топчи его ногами, но не трогай. И яблоки зреют высоко на дереве, а упав, сгнивают…» Или рассказывал про запретный плод: «Всему своё время: зелёные плоды ядовиты, так что приходится выжидать. А у древа познания всё наоборот: надо выждать, пока сам созреешь…»
Мальчик рос. Он уже знал, что в хорошей книге, как в жизни, — герой, с годами, кажется антигероем, а потом снова представляется героем. Знал он также, что к настоящему писателю можно возвращаться, открывая его заново, а если страницы забылись — о них нечего жалеть.
«“И воздастся каждому по вере его”, - прочитал как-то отец. — Как это понимать? — и не дав ответить, объяснил: Это значит, что каждый пойдёт к своему Богу: мы к Христу, мусульмане — к Аллаху, буддисты попадут в нирвану…»
«А если случится путаница? — подумал сын. — Вдруг христианина ждёт Аллах, а мусульманин будет изводиться в реинкарнациях?»
Едва не расхохотавшись, отец с восхищением посмотрел на сына.
В комнате отца был телевизор. Однажды сын включил его. Молодые люди прогоняли старика с лавки.
— Ишь, прирос, старый пень! — нагличал один.
— Придётся выкорчёвывать, — усмехался другой.
Старик сделал плаксивую мину.
— Я старый, — обиженно залепетал он, сунув руку в брючный карман, — но в штанах у меня есть одна маленькая штучка…
Молодые загоготали.
Старик достал пистолет.
Мальчик переключил канал.
«Нет ничего глупее развода, — успокаивал муж престарелую супругу. — Жена, как болезнь, — лучше иметь хроническую, чем острую…»
Сын не понимал, о чём идёт речь, сведя вместе брови, пытался сосредоточиться, но экран внезапно погас.
— Ты ещё не окреп, — повернулся к нему отец.
— Это и есть «древо познания»?
В глазах сына застыл вопрос. Но отец надеялся, что, повзрослев, он перешагнёт через него, как через песчаную горку.
Годы шли тихо, всех событий было: неурожай яблок, побитых поздними заморозками, да смерть канарейки, которую сменил зобатый скворец.
Случалось, приходили гости, возбуждённо махали руками, передавая городские новости. На улице только и разговоров было, что о нововведениях, и за столом, как попугаи, разбирали правительственные указы, обсуждали «дефицит бюджета» и «биржевые индексы». Звякали ложки, и сын за обедом слышал множество фамилий, которые не попадались в книгах. «Послушать, так у вас каждый день что-нибудь случается, — равнодушно замечал отец. — А мир врыт по самое своё основание, его и на йоту не сдвинуть. Попробуйте-ка добиться, чтобы не брали ваши тапочки или ставили на место тарелку». А вечером, укладывая сына, внушал: «Учись, сынок. Алгебра вечна. И музыка. И солнце. А времена приходят и уходят».