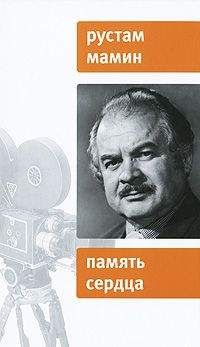— Люди и так не способны верить, — опять встрял Гаврила.
Но Поликарп гнул своё.
— На искренность клевали многие, — гудел он, как колокол при пожаре, — однако некоторые сомневались. «Не заигрывай с правдой, — советовал я тогда. — Живи во лжи и не давай другому лжецу выглядеть убедительнее». И я процветал. Однако путь долог, бывает, вышел мужчиной, пришёл — женщиной. У меня появился соперник, кормивший притчами, и только однажды — семью хлебами. Он сорил банальностями, которые всегда убедительнее истин, и его последним доводом стало страдание. Меня прогнали, и с тех пор я брожу по свету в поисках тех, кто презирает ближнего, как самого себя.
— Но я не из тех… — начал было Гаврила и осёкся.
Беспомощно уставившись под ноги, боясь поднять глаза, он вдруг понял, что давно умер. Он жил когда-то — и забыл, как жил, а теперь находится в аду. Он опять вспомнил, как за ним приходила смерть, которую он принял за музу, и освободила его от истории. Гаврила хлопнул по лбу, как по пустому карману, — ему стало жаль мыслей, которые он собирал, надеясь подарить Богу, встреча с которым откладывалась навечно. Разгладив под шляпой морщины, он захотел признаться, что жил во лжи, что изо дня в день подсовывал вместо поэзии солому, однако не его вина, что людей, как псов, можно натаскивать и на чучелах.
— Да и как поверить в того, кого никто не видел? — повернулся он к Поликарпу.
Однако тот замахал руками и, сразу состарившись, будто вынул вставную челюсть, прошамкал:
— Человек без Бога, что воробей без стрехи.
И Гаврила заметил внутри себя черневший огонёк. «Это оттого, что я жил без любви», — понял он. Река шевелила камыш, измеряя волнами свою ширину. Гавриле почудилось, что он прожил не свою жизнь и умер под чужим именем. И захотелось превратиться в птицу, чтобы перелететь на тот берег.
Стало душно, погода испортилась — ни дождь, ни вёдро, ни сумерки, ни рассвет. «Жизнь — лотерея без счастливых билетов, — бубнил Поликарп. — На земле все — искупители, только не подозревают об этом». В его тоне прозвучали нотки, непередаваемые, как вкус цианида. «А ведь был у тебя талант, — перевёл для себя Гаврила. — Да весь вышел». Поликарп завертел трость между пальцами и, как зеркало, понёс с собой частицу отразившегося в нём Гаврилы. Он больше не отбрасывал тени и, приплясывая, не касался земли. А у Гаврилы было чувство, что он, не глядя, махнулся судьбой.
Она возвращалась и, пока паром медленно рассекал воду, расплетала косу. «В своём времени нет пророков, — глядел на неё Гаврила. — Вечность полна лжесвидетельств». Ему сделалось стыдно и захотелось сжечь мёртвые слова, которыми он лечил мёртвые души.
— Меня там читают? — спросил он безучастно.
— Читают… — эхом отозвалась она.
Но всё это случится много лет спустя. А пока Артамон Кульчий сидел под развесистым дубом, вживаясь в смерть деда, а потом глядел вдаль так долго, что стал различать чаек, сновавших над каналом. Он тихо бормотал под нос, его детская улыбка была шире скул, на которых болталась, как пиджак на узких плечиках вешалки, и он ещё не знал, что по прошествии лет привыкнет говорить то, чего сам не понимает, будет верить своим словам, и, принимая участие в «круглых столах», будет с каменным лицом загибать под столом пальцы, считая, сколько раз наугад согласился, а сколько возразил, и подбрасывать монетку, доверяя ей своё мнение.
Землю заселяют в два этажа, отводя умершим нижний, и кладбище за каналом быстро разрасталось. Из-за экономии места могилы привели в порядок и теперь, стеснённые оградами, они жались друг к другу, как испуганные дети. А дом, наоборот, ветшал. Ржавая крыша протекала, словно дырявая шляпа, в щелях между кирпичами уже рос мох, из которого кое-где пробивались карликовые деревца, парившие высоко над землёй. Время беспощадно меняло его облик, заселяло новых жильцов, меняя привычки у старых, но Яков Кац по-прежнему боялся мира, за каждым поворотом которого ему мерещился Людвиг Циммерманович Фер, точильщик ножей. Он видел его в каждом встречном, который бросал на него косой взгляд, и тогда, как в детстве, струйка холодного пота пробегала у него по ложбинке вдоль позвоночника. Яков был вынужден по-прежнему обитать в квартире с приёмной матерью, к которой уже не чувствовал злости и которую даже про себя не звал Крысой. Однако Якову было невыносимо знать, как Александра Мартемьяновна прислушивается за стенкой к каждому его шагу: вот повернулся ключ в замке, вот отправляется на вешалку пальто, вот стукают об обувную полку ботинки, и, наконец, скрипнули пружины пыльного дивана с ярким, цветастым пледом, который она подарила ему на полувековой юбилей. Он обитал за стеклом, как кролик, под неусыпным взглядом удава. С Лидой он давно расстался, измученный скандалами между женщинами, принял сторону старшей, с которой провёл жизнь. Александра Мартемьяновна выглядела ещё крепкой, несмотря на лекарства, подтачивающее её железное здоровье, держалась прямо, так что её, казалось, ничто в жизни не сможет вышибить из седла. Смирившись со своей судьбой, она была уже чужда всему окружающему и мало напоминала Сашу Чирина тех времен, когда пререкалась в постели с Ираклием Голубень и губной помадой на зеркале в лифте писала гражданские стихи. Говорила она теперь лишь по делу и с той ледяной отстранённостью, которой награждает старость, доживая с каменным лицом и сердцем, давно превратившимся в золу. Видя, как приемная мать целиком сосредоточилась на себе, не различая прошлого и настоящего, как щурилась поверх очков с толстыми линзами, не замечая ничего дальше вытянутой ладони, Яков уже махнул на себя рукой, от тоски всё чаще разговаривая с зеркалом, считая себя всем забытым, как монетка, закатившаяся в тёмную щель, когда получил вдруг письмо из-за океана: «Правда − только разновидность лжи, она выдаёт бедную фантазию. Приедешь?» Вспоминая Исмаила Кац, их разговор в баре об искусственной информационной среде, создаваемой в пиар агентстве, Яков думал о людях, которым внушают мнимые ценности и которые умирают, так и не поняв, в каком мире прожили. Но по прошествии лет Яков остыл и, глядя на мир трезвыми, измученными глазами, задавал себе один и тот же вопрос: а достойны ли окружавшие другого? Ведь и в раю не познали добра и зла, может, счастье в том, чтобы не различать правды и лжи? Теперь его уже не коробила деятельность его заокеанского дяди, он находил её необходимой и даже полезной. Прочитав послание, Яков опять услышал вкрадчивый голос с приятной хрипотцой, он надолго задумался, прикрыв один глаз, точно прикидывал, какой шар положить в лузу, а потом, щёлкнув пальцами, решительно направился к двери. И с тех пор Александра Мартемьяновна стала замечать странные вещи: цветы, нарисованные на скатерти, вдруг менялись местами, точно её перестилали, пустые пузырьки, которые она складывала в тумбочку, наполнялись микстурой, вилки и ложки то исчезали, то снова появлялись, будто играли с ней в прятки, а в неожиданных местах обнаруживались свёрнутые в трубочку записки односложного содержания: «Люблю», «Скучаю», «Жду», «Приходи». И тогда она думала, что её зовёт к себе Ираклий Голубень. Александра Мартемьяновна никогда не страдала из-за того, что оставила за собой длинный шлейф разбитых жизней, не переживала из-за загубленного таланта мужа, не вспоминала родного сына, с трудом освободившегося от её чудовищной опеки, и не видела боли приёмного, так и не сумевшего сбросить её ярма, и не понимала, что Яков мучился бы гораздо меньше из-за её чёрствости и эгоизма, если бы увидел, что она из-за них мучается больше. С появлением странных записок Александра Мартемьяновна перестала есть, выбросила все лекарства, быстро похудела, точно избавилась, наконец, от своей слоновой болезни, и, утирая платком набегавшие слёзы, перечитывала то место в романе Ираклия Голубень, где появлялась на пляже, обворожительно красивая. А потом, выбросив книгу, спустилась в магазин, накупила там целый ворох модных платьев, которые надела все сразу, став похожей на луковицу, и в таком виде предстала перед Всевышним. Когда Якову Кац сообщили о её смерти, он был в бильярдной, играя по высокой ставке, он не потерял присутствия духа. Намазав мелом кий, долго прицеливался и выполнил задуманный карамболь. «Партия», − положил он кий на зелёное сукно. И ковыляя к выходу, подумал, что выиграл и другую партию — у себя. На похоронах, глядя на покойную, он со страхом думал, что, водившая за ручку по жизни, Александра Мартемьяновна потащит его и в смерть. А потом долго рыскал по квартире, собирая записки, которые сжёг в пепельнице. «Нет выбора, − бормотал он, пакуя чемодан. — Нет выбора». Яков Кац загнал себя в угол, и одиночество, которого он не выносил, погнало его за океан. Несколько часов до самолёта он не находил себе места, покрывался холодным потом, приволакивая ногу, раненой птицей метался по комнате, как вдруг пелена страха исчезла, точно ужас перед миром ушёл вместе с покойной Александрой Мартемьяновной. Застыв у окна с толстым слоем пыли, он обмакнул в неё палец, а после вытер рукавом пиджака, коротко рассмеявшись, будто разломил спелое яблоко. Победив свои страхи, мучившие его с детских лет, Яков Кац отчётливо понял, что нет ни того света, ни этого, а есть только гигантская пустота, в которой разыгрывается спектакль, порождённый больным воображением. Пройдёт несколько лет, и уже за океаном Яков увидит подтверждение своим мыслям. Это случится во сне, в котором на Страстную пятницу он будет стоять около церкви, мимо которой пройдёт Людвиг Циммерманович Фер, точильщик ножей.