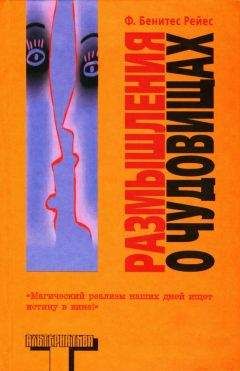Нет, наша проблема состояла не в этом. Наша проблема состояла в том, что, чтобы попасть в эти гостиные без окон, нужна была карта гостя, полагаю, для того, чтоб туда не проникла половина Сан-Хуана, ведь плакат гласил, что, пока Джорджина будет крушить все вокруг, в этих гостиных будет работать бесплатный буфет, а также бесплатный бар, и все это — под музыку группы меренге[33] «Гуарачита», — царский праздник, можно сказать.
— У нас нет пропусков, ребята. Таково объективное положение дел. Нужно будет набраться храбрости и пересидеть эту беду в «Испании», — сказал нам Хуп, и всем нам такая перспектива показалась неутешительной.
— Когда они собираются запустить туда весь этот сброд? — спросил Кинки, и Хуп ответил ему, что в плакате говорится: гостиные будут открыты начиная с пяти часов вечера.
— Дай мне час, — сказал Кинки, в своей роли чертячьего хвоста. И чуть больше чем через полчаса Кинки вернулся с семью пропусками, обеспечивающими доступ в гостиные без окон.
— Не спрашивайте меня, как я их достал. С вас по двадцать долларов.
(Сговорились на пятнадцати.)
Итак. В «Кариб Хилтон» знают толк в жизни, это вне всяких сомнений: в гостиной, куда занесла нас судьба (она называлась «Ариадна») стоял огромный стол с серебряными блюдами, на которых лежали, источая дивный аромат, лучшие творения шеф-повара, с огромными вазами салата, с фруктовыми рогами изобилия, откуда через край лились краски и свежесть, и так далее. На другом столе стояли бутылки со спиртным янтарного, изумрудного, топазового цвета, и в них отражались огромные хрустальные люстры, свисавшие с потолка, словно космические корабли XVIII века. В довершение всего музыканты из группы «Гуарачита» наполняли воздух сладостными и чарующими ритмами, как будто вместо урагана ожидали прибытия пары молодоженов.
Это было хорошо. Какое-то время мы ели и пили, в нетерпении перед приходом Джорджины. Франки Татуахе пытался приглашать женщин потанцевать, хотя результаты не заслуживают упоминания.
— У них влагалище закрылось. От страха, — говорил он, пожимая плечами, чтобы достойно принять неудачу.
Хуп язвил по поводу Бласко, который почти не держался на ногах, потому что смесь концепций бесплатного бара и проклятого поэта именно к этому и приводит, и наш Орфей ежеминутно заверял нас в том, что напишет об урагане аллегорическую поэму в четыре тысячи стихов, которая заставит затрещать вековые подмостки испаноязычной поэзии, — гимн, полный метафор, начиненных динамитом, — и это будет его главная работа, и он наконец выиграет конкурс.
(— Конкурс, где присуждается премия самой длинной поэме на тему ураганов, да, старик? — спросил сами знаете кто.)
Мутис, судя по его улыбке, продолжал пребывать в стране фей, пережрав спида и рома, и бродил по залу, словно веселый призрак, с таким видом, словно он ничего конкретного не просит у жизни, счастливый просто тем, что жив. (Говорю вам.)
Вдруг один из музыкантов из группы «Гуарачита» объявил в микрофон следующее:
— Друзья, ураган только что разразился. Но здесь, внутри, продолжается праздник. Да здравствует Пуэрто-Рико! — а потом повторил это по-английски.
Кинки и таксист Мартин сказали, что идут смотреть на ураган, и Бласко сказал, что он тоже идет, потому что ему надо собирать материал для своей аллегорической поэмы, а остальные ответили им, что присоединятся к ним, как только пропустят еще пару стаканчиков, что явилось гностическим откровением для Бласко.
— Да, еще пару стаканчиков, и тогда пойдем, — сказал он Кинки и Мартину, которые, насвистывая, вышли из гостиной с видом заговорщиков, шушукаясь между собой, потому что какое-то общее занятие должно же было быть у этого неестественного дуэта.
Когда наконец мы вышли в холл отеля («Под вашу личную ответственность», — предупредил нас некто вроде полковника гостиничного дела), большая часть огромного окна, выходившего на бассейн и на пляж, разлетелась вдребезги, и весь пол был усыпан стеклами и листвой, в воздухе кружил смерч, — в общем, это был конец света.
— Возвращайтесь в гостиную. Это опасно, — приказали нам охранники, находившиеся там, чтобы помешать актам мародерства и всякому такому прочему: они оказались глухи к профессиональным аргументам Бласко:
— Я должен написать поэму в четыре тысячи стихов, понимаете? — И нам всем пришлось схватить его и силой вытащить из этого сократического спора, грозившего перерасти в софистическое бормотание, потому что ветер был невыносимым, это точно, и любой летящий предмет мог разбить нам головы.
— А Кинки и Мартин?
Ответ мы получили, вернувшись в гостиную «Ариадна»: оба бежали по коридору, Мартин — с ломиком, а Кинки — с дорожной сумкой.
— Ураган — это мы! — кричал Кинки, а Мартин тем временем размахивал ломиком, потому что таксист — бич пороков, по-видимому, превратился в настоящего разбойника под влиянием карибского воздуха.
— Туризм — это надувательство! К черту и «Кариб», и «Хилтон»!
И они продолжали нестись, как два порыва ветра. (Потом мы узнали от них же самих, что они обманули охранников и обчистили четыре или пять номеров, разбили витрины двух сувенирных палаток, вдребезги расколотили несколько камер наблюдения, растолкли в пыль полку с часами и бижутерией, оторвали панели управления нескольких лифтов и помочились в большой котел с курицей, стоявший на кухне. (Такова суть их эпоса, можно сказать, в общих чертах.) (Признаюсь, у меня появилось искушение оставить в ящике для предложений «Кариб Хилтон» анонимное письмо: «Предметы, украденные во время урагана, вы можете обнаружить в номерах 114 и 118 гостиницы „Испания“.») (Но я этого не сделал.) (Не знаю почему.)
Когда Джорджина утихла, гостиная, послужившая нам убежищем, начала постепенно пустеть, потому что большинство постояльцев как следует набралось всевозможных изощренных коктейлей. Музыканты уже убирали свои инструменты, хотя, как брошь на платье катастрофы, трубач вдруг стал одиноко играть в ритме болеро гимн Пуэрто-Рико.
— Сматываемся? — спросил Хуп, и все мы с жаром согласились, потому что в эту минуту нашей единственной духовной целью была постель — в случае, если Джорджина не унесла с лица земли наши постели вместе со всем испанообразным хламом.
Уже наступила ночь. Улицы были пустынны и казались хаотичными тропинками среди листвы, ветвей, бумаг, разбившихся птиц.
— Здесь невозможно вести машину, ребята, — и это была правда, так что, поскольку «Испания» была еще далеко, мы бросили взятую напрокат машину прямо там и, дабы пополнить коллекцию наших бед, пошли спать в близлежащий маленький парк: голые пальмы, деревья без листьев, расщепленные стволы… След хулиганки Джорджины, ее шествия по Сан-Хуану де Пуэрто-Рико, эта мечта — восемь дней и семь ночей, — которой уготована была та же судьба, что и почти любой мечте: она оказалась полной жопой.
Во время обратного рейса мы не принимали спид, чтобы поддерживать себя в форме, потому что все израсходовали в Сан-Хуане, так что я прибег к помощи успокоительного и попытался заснуть, если только можно применить этот глагол к сильным и мгновенным обморокам, от которых страдает человек в самолете.
— Мы приближаемся к своей территории, коп, — говорил мне Кинки; он, кажется, вознамерился докучать мне до самого конца — рыскал по проходу, высматривая, не торчит ли что-нибудь ценное из ручного багажа спящих пассажиров.
— Ну, как оно? — спрашивали мы у Франки, впавшего в депрессивную фазу, испытав разочарование в пустоте своих пуэрториканских сексуальных химер, и Франки, соблазнитель в упадке, в ответ пожимал плечами, как будто давая нам понять: а как оно может быть? Мы все были столь подавлены, что даже у таксиста Мартина не было охоты рассказывать людям о способах поддержания космического порядка в ночном городе, несмотря на то что после пуэрториканских приключений он мог бы дополнить свое обычное повествование неслыханным эпизодом: как можно усугубить хаос в разгар урагана.
В общем, обратный рейс не представлял собой ничего, достойного упоминания.
Вставив ключ в замочную скважину двери своего дома, я почувствовал облегчение человека, возвращающегося из абсурдного путешествия, но я также почувствовал укол грусти, как человек, простившийся с раем. В данном случае это был рай, похожий на ад, да, конечно, да, потому что, как я уже сказал, Пуэрто-Рико — это сущее дерьмо, но, в конце концов, это все-таки был рай, ведь таковы скромные параметры любого рая: любое место, где твоя собственная жизнь превращается для тебя в отдаленное воспоминание, любое место, где твое прошлое растворяется в постепенно творимом настоящем, воплощающемся перед твоим взглядом согласно твоей воле.
(— Да, я философ. Я писал книги. Меня любили больше тысячи женщин…)