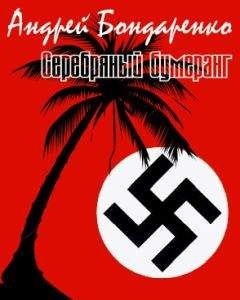Только бы они не начали травить меня в открытую…
10 января
Сегодня воскресенье. Распаковал присланные мне книжки. Нашел старые асунсьонские газеты с сообщениями о расстреле студентов. Правительственные войска были якобы вынуждены прибегнуть к этой крайней мере, чтобы остановить лавину, грозившую гибелью президенту и его министрам. А виноваты во всем террористы, затесавшиеся среди студентов и подстрекавшие их. Я положил газеты на кровать Левше. Ему будет интересно ознакомиться с подобной мотивировкой.
Среди книг есть несколько романов и мемуары падре Маиса, вложенные в посылку, безусловно, мужем Дельми, который всегда ненавидел Лопеса. Этого чтения хватит на несколько месяцев, а может, и лет. Я рассеянно перелистал «Войну и мир» и тотчас же вспомнил, что первый раз читал роман Толстого в Итапе. Я как раз приехал туда из военного училища на каникулы и лечился от болотной лихорадки. Помнится, я купил «Войну и мир» в надежде, что она имеет прямое отношение к военной науке. Сейчас я получил тот же самый экземпляр — с моими пометками. Скверная привычка — красным карандашом подчеркивать чужие мысли, которые моя память так и не сумела присвоить себе.
Из «Войны и мира» я помню теперь только несколько бессвязных кусков. Но имя русского писателя привело мне на ум историю одного истребленного племени. У кого я это вычитал, уже не помню, но строчки так и стоят перед глазами: «Все атуры вымерли. Однако в тех краях есть попугай, который помнит несколько слов по-атурски…»
На что намекает автор, говоря об особой живучести этого попугая? Не знаю, почему мне вдруг пришло это в голову. Вернее всего, по ассоциации с криками нашего попугая, который орал целый день, пока не село солнце. Кричал он хрипло, по-старчески надтреснутым голосом, твердя одну-единственную известную ему фразу: «Yapiá-ke! Yapiá-paiteke…»[56] А в перерывах бормотал какую-то непристойность и, нахохлившись, выклевывал паразитов из своих перьев, раскачиваясь на заржавленном обруче. Это голубой попугай с оранжевыми крыльями. По-гуарани он называется агагака — радуга. Говорят, он здешний старожил. И кто только его обучил этой горько-иронической фразе, которую он бессмысленно лопочет как бы в насмешку над нами?
17 января
Проливной дождь, зарядивший на весь вечер, загнал нас в помещение. Картежники режутся в буру и двадцать одно, наполняя барак азартными криками, густым табачным дымом, запахом горячего пота. Они то и дело припадают к роговым кружкам с терере[57]. Стоящие на улице бадейки полны дождевой водой. Левша не теряет времени даром — проводит «политзанятия» со своими подопечными. Миньо наигрывает на аккордеоне.
Я лежу на койке и под этот страшный галдеж безуспешно пытаюсь читать циничную и одновременно душераздирающую исповедь Фиделя Маиса. В ней он старается обелить свое поведение во время Великой войны, когда он соединял в одном лице и священника, и кровавого судью армии Лопеса. Перед глазами проплывает его жизнь: сперва рабское подчинение маршалу, потом — отречение от него и отвратительные нападки на покойного. Лопес в апогее славы был для падре Маиса парагвайским Христом, но после того, как его принесли в жертву у Серро-Кора, Маис стал поносить и проклинать Лопеса, называя его исчадьем ада, одержимым дьяволом, убийцей. Темная душа у этого Фиделя Маиса.
Мне кажется, я слышу его голос; это он двадцать лет назад, в ту памятную страстную пятницу, освящал новоявленную Голгофу на холме Итапе с прокаженным Христом Гаспара Моры. Голос летел над толпой, собравшейся у подножия Итапе, над пылающим от зноя полем, и болтливый старик в пышном облачении, одряхлевший и выживший из ума, каркающим голосом читал проповедь. Мне даже вдруг почудилось, что он просто повторял какие-то непонятные слова на древнем наречии гуарани.
Меня смаривает сон, и, наверное, я все-таки вздремнул, потому что внезапно услышал, как дождь шелестит о соломенную крышу. Хочется пить. Никому, конечно, и в голову не пришло протянуть мне кружку терере. Я пытаюсь снова углубиться в хитроумную mea culpa[58] падре Маиса. Нет, не могу сосредоточиться.
3 февраля
Пришла шлюпка с почтой и съестными припасами. Я видел, как оживились склонившиеся над письмами лица узников, словно это были не листки бумаги, написанные чьей-то рукой и оскверненные пытливой цензурой, а живые существа.
Я же никому не пишу и ни от кого писем не получаю. У лодочника я купил почти новую удочку с отличным крючком. Он ее держал на носу шлюпки.
Сначала заломил дикую цену, но в конце концов уступил. Я отдал ему последние деньги.
Поговаривают, что в Асунсьоне снова какие-то волнения. Сегодня там, наверное, большое веселье по случаю праздника святого Бласа, покровителя Парагвая. В Итапе обычно в этот день устраивали карнавал.
Вечером, когда я удил рыбу, ко мне подошел Хименес. Он сел на камень, погрузив ноги по колено в воду, и тупо уставился на реку. Хименес чем-то напоминал калеку, свесившего в воду тощие культи. Он повернулся ко мне, желая завязать разговор, но почему-то медлил. Я чувствовал, что ему очень хотелось поговорить по душам. Наконец Хименес спросил:
— Какая у тебя наживка?
— Копченое мясо.
— Дорадо на него не клюет. Этим только пираний приманишь.
— Мне все равно — я ужу для собственного удовольствия, — ответил я устало, не глядя на Хименеса и думая, что в Итапе мне и в голову не пришло бы заниматься рыбной ловлей.
— А-а, — протянул он, прислушиваясь к тому, как скользят наши отрывистые слова по радужно-зеркальной воде.
Он плюнул, потревожив спокойную речную гладь. Пора было возвращаться — кто-то громко бил в рельс. Ударам вторило эхо, отзывавшееся у дальнего лилового обрыва, так что казалось, будто нас зовут с того берега реки. Мы молча поднялись на косогор. Хименес то и дело оборачивался, глядя на воду безумными глазами. Он похудел и совсем извелся от горя! Недаром говорят: ничто так не грызет мужское сердце, как мысли о женщине, с которой его связывает не постель, а душевная близость.
5 февраля
Поймал отличную бешенку. Мы поджарили ее на углях и съели вместо тошнотворной лагерной баланды. Я лежал на койке. Меня опять бил озноб. Застарелая малярия, видно, пустила корни в кровь и опутала нервы. Но стоит приступу пройти, как у меня словно пелена спадает с глаз и передо мною отчетливо возникают вещи, давным-давно забытые. Это единственное серьезное огорчение, которое приносит болезнь.
2
20 февраля
Перед самым рассветом Хименес пытался удрать на старой лодчонке. Это была затея, заведомо обреченная на провал. Давно вышедшая из употребления посудина сразу же дала течь во многих местах, а Хименес не умеет плавать. Не успел он добраться до волнорезов, как стал тонуть. Пятеро солдат — все отличные пловцы — вытащили из воды полумертвого беглеца и, бросив его на дно лодки, вернулись на берег. Все это было действительно немножко смешно. Некоторые, вроде Ногеры и Миньо, хохотали во всю глотку и отпускали язвительные шуточки, глядя, как Сайас мечется по берегу, кричит как сумасшедший и яростно размахивает руками; не знаю, что его больше заботило: спасение беглеца или его наказание.
Последствия сказались незамедлительно: Хименесу дали тридцать суток карцера. Отныне остальным можно спускаться к реке только в назначенные часы, группой, под присмотром конвоиров.
— Вот что получается, когда им доверяешь, — вопил Сайас перед строем солдат.
Теперь уж мне не купаться поутру, наслаждаясь одиночеством, а вечером не ловить рыбу. Идиотская выходка Хименеса разом лишила нас той скудной свободы, которой мы еще располагали.
29 февраля
На рассвете Хименес умер. Когда у него началась лихорадка, Сайас велел перенести его в барак и положить на койку. Последние три дня он лежал без сознания и тупо глядел в потолок. И поскольку наша трухлявая посудина была в ремонте, а шлюпка заглядывала только один раз в начала месяца, то своевременно отправить Хименеса в больницу не сумели, хотя спасти его было еще возможно. Не менее затруднительным оказалось и увезти труп, который от жары стал быстро разлагаться. Ногера сказал, что Хименес даже умер неудачно, не в тот день:
— Будь год не високосный, так он умер бы в день героев[59].
Похороны его превратились в пародию на погребение. Из разбитых ящиков сколотили гроб. На крышке пестрели надписи, рекламирующие разные сорта мыла и керосин.
Могилу принимались рыть дважды или трижды, пока наконец не наткнулись на такое место, где окаменелый туф оказался податливым и позволил выкопать довольно глубокую яму. Сайас пытался произнести экспромтом что-то вроде надгробной речи, но вынужден был часто останавливаться. Назойливые выкрики и заборная брань попугая то и дело пронзали барабанные перепонки вечера. Какой-то солдат погрозил ему прикладом, — тогда он замолчал. Все это было похоже на странный фарс.