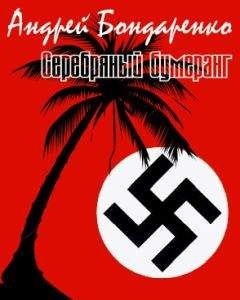— Самое прямое! Это прожорливое насекомое съело королевские указы, пограничную полосу, принцип uti possidetis[62], поглотило реки, все подчистую — и теперь никто ничего не понимает. Ни наши юристы, ни их.
Больше уже никто не мог сдерживаться, и каждый хохотал во все горло.
— Мы будем сражаться за грамоты! — размахивал руками Левша, стараясь перекричать остальных. — Но не за грамоты, съеденные молью в Чаркас и Чукисаки, как говорит Ногера.
— А за какие? — оборвал его тот на полуслове.
— За грамоты и новенькие акции, хранящиеся в несгораемых сейфах помещиков, торгующих танином. Каждый из этих помещиков посильнее нашего правительства, да и всего Парагвая. Вот что вы мне скажете о Касадо? [63] Стоит нам войти в Чако, как мы сразу оказываемся в его владениях. Стало быть, мы будем просить, чтобы нам дозволили умереть за его земли.
— Этого я уж совсем не понимаю, — возмутился один штабной офицерик, по-обезьяньи жестикулируя. — Зачем же нам умирать холостяками за сеньора Касадо?
Ответом ему был общий гогот — всех рассмешила эта наивная игра слов. Левша терпеливо выжидал, пока узники угомонятся, и снова пошел в атаку.
— Нам предстоит не только сражаться за эти самые грамоты и отстаивать интересы парагвайских латифундистов, но и умирать за них и за акции заграничных нефтяных компаний.
— Нет, мы будем сражаться и умрем патриотами! — закричал Мартинес.
— Да, только наш патриотизм будет отдавать керосином, — отрезал Левша, опустив уголки губ. — У крупных предпринимателей острый нюх. Издали чуют, что Чако пахнет нефтью. Целое море нефти скрывает эта земля.
— Так нам и надо защищать нашу нефть! Или ты хочешь отдать ее боливийцам, дьявол тебя задери? — взревел артиллерист.
— Она достанется не им, — ответил Левша. — Даже если они получат всю область Чако. Вот про это мы и должны открыто сказать тем, кто готовит войну, ребята! — крикнул он и стукнул кулаком по столу. — Всем, кто готовит ее в Парагвае и за границей, разным компаниям «Стандарт», «Касадо» и прочим.
— Смени пластинку, Левша, — шепнул ему, подмигивая, Ногера, заметив приближающегося к ним начальника лагеря.
Появление Киньонеса положило конец разгоревшемуся спору. Несмотря на наши шуточки и балагурство, каждый понимал, что война не за горами. Даже для нас. Правда, нам она представляется сейчас чем-то нереальным и бесконечно далеким.
3 августа
Когда план побега хоть и медленно, но все же начал принимать более или менее отчетливые очертания, неожиданно нам объявили о помиловании и зачитали приказ о нашем переводе. Перебрасывают всех. Объявлена всеобщая мобилизация. Всякому понятно, что не сегодня-завтра начнутся бои. Тридцать первого превосходящие силы противника захватили форт Бокерон. Киньонес познакомил нас с выдержками из приказа высшего командования, находящегося в Консепсьоне. Да, на сей раз речь идет не о простой стычке. Очевидно, нарушившие границу боливийцы стягивают войска в надежде перерезать главную водную артерию — реку Парагвай; это все равно что перебить нам хребет. Если удастся завладеть рекою, они сложат нас вдвое и загонят в мешок.
Всех заключенных отправляют в Чако. Там мы будем нужнее, чем здесь. Прогнозы Левши сбылись; впрочем, остальные тоже говорили правду. Наши идейные разногласия разом были сведены на нет. Отныне никаких политических дискуссий. Между Колорадо, либералами и беспартийными заключен мир; между сторонниками войны и ее противниками воцарились согласие и взаимопонимание, словно мы и в самом деле завтра окажемся на воле. Теперь даже со мной кое-кто перекидывается словом. Киньонес стал обходиться с нами по-дружески.
5 августа
За нами пришла лодка. Вечером мы отчаливаем. В осиротевшем лагере остаются только капрал, двое солдат и попугай. Взбудораженный предотъездной суматохой, он так истошно вопил, что даже охрип. Ногера на прощание приласкал птицу: поцеловал ее прямо в крючковатый клюв. Все на радостях смеялись, выкрикивая патриотические лозунги. Попугай что-то буркнул в ответ и, как обычно, спрятал под крыло лысую голову. Когда скалистый остров опустеет, эпитафией на могиле Хименеса будет только хриплый крик этой большой птицы.
Шум и веселая болтовня продолжались и в лодке. Я устроился на корме и смотрел не отрываясь, как постепенно удаляется островок. Теперь мне опять казалось, что он уверенно и стремительно плывет против течения. В последний раз я увидел, как на фоне багряного неба меж зеленых листьев скользнули два мягких голубых крыла.
4
13 августа
Из Пуэрто-Касадо мы в полночь поездом приехали на сто сорок пятый километр. Довольно долго тряслись в вагоне, потом пересели на разбитые грузовики, которые без остановок дотащили нас до тыловой базы. По дорогам тянутся бесконечные обозы, отряды новобранцев. Идут мимо дорожных комендатур. Мелькают названия, пахнущие родным домом: Касанильо, Посо-Асуль, Кампо-Эсперанса… В свете фар они то появляются, то исчезают в волнах пыли. Чтобы отогнать сон, пишу эти записки.
Рано утром на небольшом песчаном холме показался форт Исла-Пои. За ним сверкает озеро. Играет яшмовая чешуя воды, по берегу лепятся чахлые кустики.
Настоящий оазис на этой прокаленной солнцем равнине, которая по воле случая превратилась в кратер действующего вулкана, пожирающего бездонной пастью пепел людских караванов. Здесь лихорадочно готовятся к контрнаступлению.
14 августа
Всех нас, ссыльных, раскидали в разные стороны. Меня направили в Н-ский полк, стоящий на формировании, а там сразу же поручили сварить похлебку из пушечного мяса по рецептам полевого устава.
Множество мужчин в военной форме оливково-зеленого цвета беспорядочно копошатся на громадной пустынной равнине, словно черви в гниющем куске сыра. Но они не черви, а люди, и они не родились на этой бескрайней, пористой, как пемза, земле. Они ходят по ней пленниками собственной судьбы. Их мобилизовали наравне с грузовиками и вьючной скотиной.
20 августа
С сегодняшнего дня у меня в денщиках солдат по имени Ниньо Насимьенто[64] Гонсалес. Его в шутку окрестили «Вифлеемским младенцем». Я встретился с этим парнем, когда из Асунсьона пригнали свежую партию новобранцев. Он оказался сыном Лагримы Гонсалес. Я подумал об этом с самого начала, как только увидел его имя в списках мобилизованных. Помнится, Лагрима как-то заверяла меня, что если у нее когда-нибудь родится сын, то она назовет его Ниньо Насимьенто. Какие только причуды не бывают у женщин. С тех пор прошло много лет. Сколько? Целая жизнь.
Незадолго до заговора я был у Лагримы на улице Генерала Диаса, 512, в публичном доме возле военного госпиталя. Кто-то сказал мне о ней. Я тогда заканчивал очередной курс лечения моей застарелой малярии. Пришел вечером. Лагрима увидела меня и смутилась. Мы прошли в ее комнатенку. Она стыдливо переоделась за ширмой, засмеялась нервно, растерянно, хотя и старалась воспроизвести смех той молоденькой девочки, какой я ее знал прежде. Но смех этот был уже не тот. Мы просидели два часа на кровати — ровно столько отпускалось клиенту — и, как робкие влюбленные, чувствовали себя не в своей тарелке. Говорили об Итапе, о школе, вспомнили знакомых, постепенно привыкая друг к другу: многое нас связывало и одновременно разъединяло. Уже в конце разговора она спросила, не хочу ли я с ней лечь в постель. Я отказался. Это было бы похоже на кровосмесительство. Я подарил ей доставшийся мне от деда перстень и вышел на улицу. На душе было мутно и пусто, будто я разом постарел.
«Вифлеемский младенец» меня не знает, впрочем, и я до нашей встречи не подозревал о его существовании. От матери он унаследовал карие лукавые глаза. Он вполне мог бы быть моим сыном, но он — мой денщик. Перипетии войны сделали меня его командиром. Неумолимые законы случая, видно, предпочитают действовать в самом средоточии хаоса — там есть где им развернуться в полную силу.
25 августа
Высунула нос вражеская авиация. Самолет пролетел низко над тыловой базой, обстрелял ее из пулемета, сбросил несколько бомб. Обошлось без потерь. Маневры одинокого «юнкерса» лишь позабавили солдат: многие из них совсем недавно сменили крестьянскую одежду на военную форму и видели самолет впервые в жизни. А через полчаса следом за «юнкерсом» появились два парагвайских «потеса». Выхлоп у них был шумный, как дыхание у астматиков, и рев они издавали невероятный. Какой-то шутник свистнул при виде этих воздушных колымаг, которые с опозданием завладели небом над нами и теперь чванились, как два лесных павлина.
Мы поспешно сооружаем укрытия — некоторое подобие блиндажей. Вырыли огромные ямы, навалили поверх стволы деревьев — вот и накат.