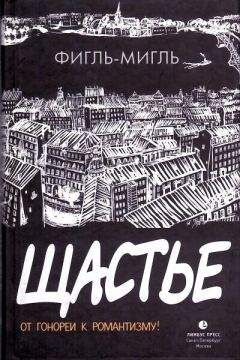— Но если боль невыносима?
Воплощённое зло говорило приятным, безупречно вежливым голосом, в упрёк которому можно было поставить только наигранно мягкую интонацию.
— Боль не бывает невыносимой. Она или убивает, или стихает, или приучаешься её терпеть. Поэтам не мешало бы иметь над письменным столом картинку со спартанским мальчиком.
— А ЕСЛИ ОНИ ПИ-ШУТ НЕ ЗА СТО-ЛОМ? — спросил Вильегорский.
— Кто это — спартанский мальчик? — спросил я.
— А, — Фиговидец отмахнулся, — да этот же, с лисёнком.
— ИН-ТЕ-РРЕС-НО, А С НИМ ЧТО СТАЛО? С ЛИ-СЁН-КОМ?
— Это вымышленная история, — заметил Кадавр. — Для лисёнка у неё нет окончания.
— А КТО ЕЁ ВЫ-МЫС-ЛИЛ?
— Вряд ли лисы.
— Бог мой, — сказал Аристид Иванович, — как это всё же утомляет. Давно не было таких нервных похорон. Пойдёмте обедать.
Но я с ними не пошел.
Вот что было прекрасно на В.О.: можно было пойти куда угодно и встретить кого угодно там, где вовсе этого не ожидал, и предстоящий день, предстоящий вечер разбегался десятком тропинок, сотней возможностей, о большинстве из которых ты не знал ничего, лишь то, что они смутно, неявленно существуют в золотом тумане времени — и так в нём и останутся, пропадут навеки.
Предстоящий день, предстоящий вечер! Выбирая одно, автоматически отказываешься от всего остального, но на этих путях, этих тропинках отвергнутое неожиданно, улыбчиво преграждает тебе дорогу, без трещин и швов вписываясь в рисунок будущего. И как мог кто-либо удивиться, увидев через несколько часов в баре, куда не собирался заходить, Фиговидца, который весь сиял радостью и только что не кувыркался, и того, кто поворачивается и сверкает золотыми зубами и говорит:
— Вот и ты, мой прекрасный.
4
Утром я проснулся в чужой постели. (Нет, не Кропоткина.) Я не помнил, как в неё попал, и только теоретически мог предположить, что в ней делал. Хозяина (хозяйки?) дома уже не было. Я позавтракал в светлой столовой под присмотром солнца и пожилой молчаливой экономки. Когда я уходил, она подала мне на подносе простой незаклеенный конверт. «Илья Николаевич просили напомнить, что завтра вы с ними обедаете», — сказала старушка. Я вспомнил Людвига, накануне подкараулившего меня в баре со странной просьбой. И вот, с бандитом я сегодня обедаю, с фарисеем и книжником — совершаю уголовное преступление. «Ага», — сказал я. В конверте не было ничего, кроме денег. Кое-что, по крайней мере, прояснилось.
В состоянии странной апатии шёл я по неширокой улице, быстро выведшей на Невский. Спадала жара, в иные дни август глядел сентябрём и полнился какой-то прозрачной прохладой. Тротуары уже не поливали водой — за дело взялись ночные дожди. Я другими глазами увидел размыто-розовые и серые фасады, редкие неброские витрины первых этажей, безлюдье. Я словно шёл по чужому сну или, наконец, по своему собственному. Только на Невском мне стало легче.
— Моя беда в том, что я хочу луну с неба, — говорит Илья. — И даже не это беда, — он подбирает слова, — беда в том, что я понимаю, что никакая это не луна.
— А что же?
— Так, пустяк, ничтожество. Заплесневелый кусочек сыра в мышеловке. Какая разница? Я хочу как луну то, что луной не является. Даже близко не лежало. — Он пьёт, закуривает, пьёт. — А у вас, Разноглазый, есть луна? — Пауза для моего ответа. — И вам не скучно?
Оба раза я ответил «нет».
À propos: Илья
Илья говорит: «Меня совсем доконали поэты и так называемый умеренный климат». Он улыбается, и тот, кто на него смотрит, чувствует, что всё в мире исчезает, кроме этой улыбки. Ах! Падают города, рушится солнце. Илья всё примечает своими ленивыми глазами, и в них скользит пугающая, злая радость обладания. Он коллекционер. Он выбирает души тщательно, как драгоценности: берёт самое редкое, самое дорогое — гордые души, и нежные, упрямые и непреклонные, и невинные, и души, ставшие тонкими, как паутина, из-за угрюмых и причудливых извращений.
«Как будешь честным, — говорит Илья, — если не любишь? — (Он зевает.) — А если любишь — тем более. Себя-то тоже жалко». И ещё он говорит: «Приключения — не такая уж страшная вещь, даже приключения чувств». И ещё: «Некуда бежать от рока осторожному». Он многое говорит и ещё больше делает, но слова его ловят и берегут, а о делах стараются даже не знать.
Я спросил его, был ли лет пятнадцать-двадцать назад изгой по имени Павел.
— Ах, да, — он кивает графину с вином. — Вы же были на Охте, встречались с Платоновым. Его отца сгубило воображение, вовсе не жадность. Он считал себя изобретателем новых финансовых схем, а люди попроще сочли, что он изобрел всего лишь новый вид воровства… Как он?
— У меня сложилось впечатление, что давным-давно умер.
— Нет, я про Колю.
— Копит силы для борьбы с варварами.
— Во времена нашей юности не было такого спроса на приключения.
— Но некоторые считают его параноиком.
— Вздор. Это была самая светлая голова в моём поколении. И помолвлен с первой красавицей. Девушка с ним, конечно, не поехала. Красавицы следуют только за теми чудовищами, для которых не потеряна будущность принцев. А если чудовище принцем уже было, то красавица ждёт его среди грядущих поколений, не заставших дворцовых празднеств. И пожара, в котором дворец сгорел, тоже.
— Неужели ничего нельзя было сделать?
— Что, например?
— Отречься.
— От дурной крови не отречёшься. Да он бы и не стал отрекаться. Отречение всегда выглядит нелепо. Даже в людях, бросивших курить, — а они ли не отступники! — есть что-то жалкое. И у него были принципы. А принципы — не такой зверь, чтобы здорово живёшь разжать челюсти, раз уж в них что-то попалось. Если большинство людей как-то высвобождается, это свидетельствует только об их несъедобности. Ммм… Так что там с варварами?
Я распространил сведения о варварах. Илья (а то я давно ничего такого не видел) пожал плечами.
— Но здесь тоже ходят слухи.
— Последние времена всё время настают и всё никак не настанут, — легкомысленно ответил он. — В этом есть что-то удручающее, правда? Но когда наконец удаётся увидеть весь комизм своего поведения, оно перестаёт быть естественным и, следовательно, столь комичным. Хороший портвейн?
— А откуда он, кстати, берётся?
— Я беру у виноторговца Осипова, а ваш приятель Алекс — у Вульфа. Примечательно, что у всего этого поколения неладно со вкусом. Может быть, это из-за смены жаргона? Я, например, в молодости был хлыщом, а мой дед — щёголем, а они теперь — пижоны (и почему не пыжики?). Бывает же экстравагантность в прямом родстве со слабоумием. Впрочем, Алекса это не смущает. Ну и прекрасно. Ничто не выдаёт глупца так, как страх перед глупостью.
Я не понимаю, почему подразумевавшееся мной географическое происхождение портвейна оказывается коммерческой тайной, но готов с этим смириться, как с данностью. В Городе столько вопросов, которые не принято задавать, и тем, на которые не принято говорить, что присоединение к реестру ещё одного вопроса и ещё одной темы не вызывает удивления, разве что перед памятью, способной всё это вместить. С клиентами я время от времени переходил грань приличий — из озорства, мстительности, быть может, или оттого, что им это шло на пользу. Но сейчас я на отдыхе, клиенты превратились в приятелей и знакомых. С ними приходится быть осторожнее.
В половине второго ночи я подошёл к кустам, грозно разросшимся во дворе одного из домов на В.О., и мне тут же из них посвистели. Вслед за свистом высунулась и потрепала ветви рука. Я пролез в заросли и нашёл там Людвига, Вильегорского, собак, кошек и тележку. Я посмотрел на животных. Демагог (такса) меня узнал и пошевелил хвостиком, держась, однако, в отдалении. Остальные дружно воротили морды.
— ИМ ВЕДЬ ТОЖЕ ИН-ТЕ-РЕС-НО, — сказал, оправдываясь, Вильегорский. — А ОС-ТАВЬ ИХ ОД-НИХ ДОМА, ДА ЕЩЁ НО-ЧЬЮ…
Я посмотрел на Людвига, ожидая распоряжений, но тот неправильно истолковал мой взгляд и тоже стал оправдываться:
— Мне его дух явился.
— Во сне?
— Ну вот, сразу во сне. Я говорю: дух, а не привидение. На спиритическом сеансе. Духам не отказывают. Да ведь он меня и прежде просил — ну, когда… На всякий случай.
Просьба состояла в том, что Людвиг должен был быстро, тайно, противозаконно вывезти в ближайший овраг архив Александра и там его уничтожить. На подмогу были позваны самые, по мнению Людвига, неболтливые. Так он сказал мне. («Весьма польщён», — ответил я.) Что он сказал Вильегорскому и что ответил Вильегорский, мне неизвестно. Мы оба явились нарушать закон точно в указанное время и место.
Мы поднялись по тёмной лестнице. Людвиг отпер дверь.
— ОТКУДА КЛЮ-ЧИ-КИ?
Людвиг пропустил вопрос мимо ушей. Проведя нас в кабинет, он зажег фонарик. В скачущем луче света вещи и мебель тоже задвигались.