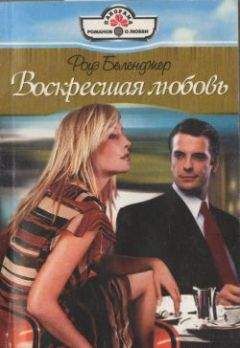– Какой, должно быть, изнурительный труд.
– Изнурительный, – согласился я. – Во всех смыслах.
– Так что же, да или нет?
– Пожертвует ли он свое сердце? Думаю, это зависит от вашей дочери.
Раввин покачал головой.
– Нет-нет. Мэгги, если захочет, гору с места сдвинет. Одну молекулу за другой. Я имел в виду, Иисус он или самозванец?
Я непонимающе моргнул.
– Вот уж не думал, что услышу этот вопрос от раввина.
– Ну, в конце концов, Иисус был евреем. Сами посудите: жил с родителями, унаследовал отцовский бизнес, считал свою мать девственницей, а она его – Богом. – Раввин Блум усмехнулся, и я ответил ему улыбкой.
– Во всяком случае, учит Шэй другому. Не тому, чему учил Иисус.
Раввин засмеялся.
– А вы, я так понимаю, были там и все слышали?
– Я знаю, что сказано в Священном Писании.
– Знаете, меня всегда поражают люди, будь они иудеями или христианами, которые воспринимают Библию как нечто незыблемое. «Евангелие» переводится как «благая весть». Это способ обновить информацию, адаптировать ее к нуждам публики.
– Не могу сказать, что Шэй Борн адаптирует историю Христа для молодого поколения, – признался я.
– Тогда возникает вопрос, почему так много людей доверилось ему. Как будто то, кем он является, не важно по сравнению с тем, кем он должен быть в их представлении. – Ребе Блум пробежался глазами по книжным полкам, пока не нашел нужный запылившийся том. Еще несколько минут потребовалось на поиск определенной страницы. – «Иисус сказал ученикам своим: Уподобьте меня, скажите мне, на кого я похож. Симон Петр сказал ему: Ты похож на ангела справедливого. Матфей сказал ему: Ты похож на философа мудрого. Фома сказал ему: Господи, мои уста никак не примут сказать, на кого Ты похож. Иисус сказал: Я не твой господин, ибо ты выпил, ты напился из источника кипящего, который я измерил».
Он закрыл книгу, а я безуспешно пытался вспомнить, откуда этот отрывок.
– Историю всегда пишут победители, – сказал раввин Блум. – А это написал один из проигравших.
Он вручил мне книгу, и в этот момент в комнату заглянула Мэгги.
– Папа, неужели ты пытаешься всучить нашему гостю сборник лучших семитских анекдотов?
– Можешь мне не верить, но у отца Майкла, оказывается, уже есть такая книга – притом с автографом автора. Обед готов?
– Да.
– Слава Богу! Я уже боялся, что твоя мать кремировала этого окуня. – Как только Мэгги скрылась в кухне, раввин Блум сказал: – Что бы там ни говорила Мэгги, мне вы еретиком не показались.
– Это долгая история.
– Уверен, вы и без меня знаете, что слово «ересь» происходит от греческого «выбор». – Он пожал плечами. – Интересная ситуация. Вдруг идеи, всегда считавшиеся святотатственными, на самом деле вовсе не святотатственны – просто мы с ними прежде не сталкивались? А может, нам не позволяли сталкиваться с этими идеями?…
Книга, которую дал мне раввин, обжигала руки.
– Проголодались? – спросил Блум.
– Как волк, – признался я и последовал за хозяином дома.
Когда я была беременна Клэр, мне сказали, что у меня гестационный диабет. Честно говоря, я до сих пор в это не верю: примерно за час до сдачи анализов я водила Элизабет в «Макдональдс» и допила ее апельсиновый сок, который любого уложил бы в диабетическую кому. Тем не менее, когда акушерка объявила диагноз, я повиновалась всем указаниям: соблюдала суровую диету, несмотря на зверский аппетит, дважды в неделю сдавала кровь и затаивала дыхание всякий раз, когда врач измерял рост ребенка. Нет худа без добра, говорите? Это верно: мне множество раз делали ультразвуковое обследование. И еще долгое время после первого превью, которое все будущие мамы получают на двадцатой неделе, я продолжала любоваться все новыми и новыми портретами. Видеть наше дитя стало для нас с Куртом настолько привычно, что он даже перестал ходить со мной к гинекологу. Он оставался приглядывать за Элизабет, а я ехала в больницу, где по моему обнаженному животу проводили зондом – и на мониторе высвечивались контуры стопы, локтя и носа новоиспеченного человечка. – К восьмому месяцу изображение уже не походило на неумелый рисунок, который видишь на двадцатой неделе; к восьмому месяцу ты уже видишь волосы, складки кожи на большом пальце, форму скул. На ультразвуковом мониторе она казалась до того реальной, что я порой забывала, что она еще в моей утробе.
– Уже совсем недолго, – сказала лаборантка в тот последний день, вытирая теплым полотенцем гель с моего живота.
– Вам легко говорить, – огрызнулась я. – Это не вам приходится бегать за непоседливой семилеткой на восьмом месяце беременности.
– Поверьте, я тоже через это прошла, – сказала она, вынимая из-под монитора сегодняшнюю распечатку.
Увидев лицо, я буквально задохнулась от восторга. Девочка была вылитый Курт – ничего общего со мной или Элизабет. У этой новой жительницы Земли были его широко посаженные глаза, его ямочки на щеках, его заостренный подбородок. Спрятав снимок в сумочку, я поспешила домой, чтобы скорее показать его мужу.
Соседнюю улицу наводнили машины, но я решила, что это из-за ремонта дорог: в нашем районе меняли асфальт. Какое-то время мы покорно стояли в заторе, слушая радио. Минут через пять я заволновалась: Курт должен был идти на дежурство и специально перенес обеденный перерыв, чтобы я смогла поехать на УЗИ без Элизабет. Если я не вернусь домой вовремя, он опоздает на работу.
– Слава богу! – воскликнула я, когда машины наконец тронулись. Приблизившись к своему кварталу, я увидела знаки объезда и патрульный автомобиль у обочины. В сердце что-то кольнуло, как бывает, если видишь пожарную бригаду, мчащую в сторону твоего дома.
Дорожным движением управлял Роджер, с которым я немного была знакома.
– Я здесь живу, – сказала я, опустив стекло. – Я жена Курта Ни…
Не успела я договорить, как лицо его словно окаменело. Тогда я поняла, что произошло нечто ужасное. Я уже видела такое лицо – у Курта, когда он сообщил, что мой первый муж погиб в автокатастрофе.
Я мигом отстегнула ремень и стала неуклюже выбираться из машины, совсем беспомощная со своим громадным животом.
– Где она? – закричала я. Выключить мотор я даже не подумала. – Где Элизабет?
– Джун, – сказал Роджер, крепко обнимая меня за плечи, – идемте со мной, хорошо?
Он довел меня до дома, где я увидела то, чего не видела с перекрестка: множество патрульных машин, чьи мигалки сливались в единое сияние, будто новогодние гирлянды. Распахнутые зевы карет «скорой помощи». Распахнутую дверь моего дома. Какой-то офицер держал на руках собаку; заметив меня, Дадли принялся лаять как умалишенный.
– Элизабет! – завопила я и, оттолкнув Роджера, побежала к дому – уж насколько это было возможно в моем положении. – Элизабет!
Кто-то остановил меня на бегу, и я на миг задохнулась.
– Джун, – мягко сказал начальник полиции, – идемте со мной.
Я вырывалась что было сил – царапала его, лягала, молила отпустить. Я подумала, что если я подниму бучу, то, возможно, не услышу то, что они хотели сказать.
– Элизабет? – прошептала я.
– В нее стреляли, Джун.
Я ждала, когда он продолжит: «…но все будет хорошо», но он молчал. Он лишь покачал головой. Уже позже я вспомнила, что он плакал.
– Я хочу ее увидеть, – сквозь слезы произнесла я.
– Это еще не все, – сказал полицейский.
В этот момент парамедики вывезли Курта. Лицо его было белым как полотно, в нем не осталось ни капли крови – все запасы, видимо, ушли на то, чтобы пропитать импровизированную повязку на туловище. Я коснулась его руки, и он перевел на меня остекленевший взгляд.
– Прости, – выдавил он. – Прости меня, пожалуйста.
– Что произошло?! – завизжала я. – За что я должна тебя простить? Что с ней случилось?!
– Мэм, – вмешался парамедик, – нам нужно отвезти его в больницу.
Меня оттащил какой-то санитар, и я смотрела, как Курта грузят в машину, бессильная что-то изменить. Потом начальник полиции вел меня к другой «скорой» и произносил слова, которые тогда казались мне твердыми и ровными, как кирпичи, и укладывались они в предложения, целую словесную стену, призванную отделить привычную мне жизнь от жизни, которой я отныне вынуждена буду жить. «…Курт дал показания… увидел, как плотник совращает Элизабет… Схватка… Выстрелы… Элизабет задело».
«Элизабет, – говорила я, когда готовила обед, а она хвостиком ходила за мной по тесной кухне, – не путайся под ногами».
«Элизабет, мы с папой хотели бы поговорить наедине».
«Элизабет, не сейчас».
«Никогда».
Ноги немели, не слушались.
– Это мать, – сказал полицейский встретившему нас парамедику. По центру машины лежали носилки, а на них – что-то совсем крошечное, накрытое толстым серым одеялом. Я протянула дрожащую руку и робко стащила одеяло. Как только я увидела Элизабет, ноги у меня подкосились и, если бы не этот полицейский, я рухнула бы на землю.