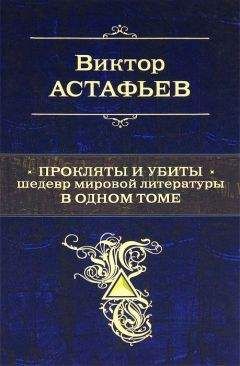Леха не объяснял. Глотнув еще маленько, на этот раз из кружки Финифатьева, гвозданул напарнику по плечу:
– Не зря ты в самой мудрой партии так давно состоишь, не зря!
Утром в траншее обнаружился убитый немецкий разпедчик, по всем видам уложил его из автомата Булдаков. Вечером из санроты возвратился Коля Рындин, сказав, что ранение у него пустяшное и отставать ему от своих никакого резона нет.
На самом же деле одно ранение у Коли в боку было проникающее. Кроме того, во всю грудь наискосок шла глубокая ножевая царапина, и шишка от чужеземного приклада на башке с картошину назрела.
Но боец Рындин, проявив патриотизм, просил ротную фельдшерицу Нельку Зыкову командиру роты про серьезность ранения и про ушиб не говорить, перевязывать его в роте. Ну, а если уж хужее сделается, тогда сам он добровольно куда надо пойдет.
Превозмогая боль, Коля всем стремился доказать, что он в порядке, ломил, варил на кухне вместе с поваром, яму под кухню сам копал, рубил и таскал дрова, пилил. Повар только и знал, что наливать в котелки – дивизия перешла в наступление, несла потери, каждый человек на переднем крае был необходим.
Через полтора месяца Коле Рындину вручал орден «Отечественной войны» первой степени командир полка Бескапустин. Наряженный в чистую гимнастерку с подворотничком, наученный товарищами и ротными командирами, как подобает себя вести во время торжественного акта, как жать руку вручающему орден за взятие языка и не шибко громко, но внятно сказать: «Служу Советскому Союзу!» – награждаемый все это проделал, как было велено, только вот руку так жманул командиру полка, что тот присел. Коля Рындин намеревался сказать, что не брал он никакого языка, на него напали, он отбивался и нечаянно одного врага оглушил, но ротный, Алексей Донатович, незаметно показывал ему кулак у самого изгиба форсистого галифе, и он ничего говорить не стал.
Уже у себя в землянке, угощая свежего кавалераорденоносца водочкой и при этом сам упившись, Щусь братски обнимал своего любимого солдата и твердил, что не ошибся он в нем, в Коле Рындине, и во всех ребятах-осиповцах не ошибся, – воюют что надо, а что подводят иногда своего командира и кровь у него уж вся почернела – «такая его планида…», как говорит сержант Финифатьев.
«Захмелел товарищ лейтенант», – слушая умилившегося ротного Щуся, думал не один Коля Рындин. Все его давние сопутники безгласно любили командира, тепло о нем думали. Леха Булдаков, получив вместе с Колей Рындиным орден «Красной Звезды», третий по счету, кидал его в алюминиевую кружку с самогонкой, уверяя, что завсегда так в благородном обществе обмывают ордена, и просил товарища своего спеть песню: «Много девушек есть в коллективе», но Коля Рындин отмахивался от него, и дело кончилось тем, что сам Булдаков заблажил с детства запомнившуюся песню: «По Сибири до-олго шля-ался арестанец молод-о-ой…», Коля Рындин, умильно глядя в зубастый рот земляка, сперва стеснительно, «для себя», подпевал ему, однако постепенно набирая голосу, мощно подбуровил: «Со-орок тысяч капиталу во Сибире я нажы-ы-ыл, а с тобой, моя чалдоночка, в одну но-о-очку-ю пра-а-аакути-ы-ыл!» Коля Рындин на этом месте даже притопнул и от чувства братнева завез по спине своему повару так, что самому пришлось имать его в воздухе!
– У них и песни-то все каторжны, про грабителей с большой дороги, – ворчал сержант Финифатьев и, будучи сам навеселе, просил друга своего: – Олех, Олех! Давай каку-нить человеческу, а? Давай!
– Партейную?
– Да ну тя! С тобой, как с человеком…
– Ну, давай, затягивай, а мы подхватим. Да налей сперва, не жмись.
Налили. Выпили, благо командиры все разошлись и не мешали вполне заслуженному веселью, столь редкому у солдат.
Финифатьев сузил замаслившиеся глаза, прищелкнул пальцами и сразу высоко, звонко начал: «А, девочка Надя, чиво тебе надо?»
И солдаты обрадованно, что помнят, не забыли, сразу во всю грудь подхватили:
А нич-чиво не надо, кроме чиколада!…
Финифатьев знал всю песню насквозь:
А чиколада нету…
Солдаты ухнули:
Дам табе канх-вету!…
– Вот, – не переставая щелкать пальцами и вести бодрую песню, ликовал Финифатьев. – А то орут всякую херню…
Веселились тогда и пели долго, пока все до единой капли не прикончили.
С рассветом, ясным, солнечным, когда уже ничто не застило ни неба, ни светила, сделалось видно заречье, столь близкое и столь далекое. Досталось и заречью: лес по обережью совсем проредился, торчали по нему черные остовы стволов и сломанных ветел, хутор на берегу почти и не значился – груды каменьев да головешек от него остались. Старая, слежавшаяся солома все еще бело и вяло дымилась, седой дым дедовской бородой отгибало к реке, шевелило над водой. Даже и до плацдарма доносило саднящий дух горелого хлеба, грязных овчин, угарный чад выгоревшего дерева, скорее всего от смолой пропитанных дубовых свай, на которых стояли хаты приречного селенья.
«Не одним нам досталось», – удовлетворенно отметил Леха Булдаков, вылезший из норки, «из своей кривой кишки поливая камешки», как пишется в одном детском стишке. Вместе с Лехой Булдаковым испытала злорадное удовлетворение всякая сущая душа, бедствующая на плацдарме. Штрафная рота, поднятая по тревоге и выдворенная из береговых норок, вслух выражала свои патриотические чувства.
Возле берега, по заливам и уловам качало шубой всплывшую, синевато-черную сажу, но тот, кто решил умыться, в смятении обнаруживал: то не сажа, то мухи, черные, трупные мухи. Днем, когда тепло, в парной духоте они окукливались на трупах; оставляли кучку червей-плевков и ночью, убитые инеем, вялые от холода, валились в воду, ползали по берегу, по отвесам яра, залезая в норки, липли к теплым лицам людей, от взрывов подлетая тучами, они издавали монолитный зудящий звук, раненым казалось – приближаются самолеты.
Перелетные птицы, еще с вечера остановившиеся на реке, жировали, выедая мух и глушеную рыбу. Утром, при первых же звуках боя, птицы взмывали в небо и, высоко кружась, летели в дальние, теплые страны, здешние же птицы волнами откатывались от места драки в глубь материка.
Ночью на двух понтонах и на связке надутых резиновых лодок переправили на плацдарм отборный заградотрядик, душ во сто, вооруженный новыми пулеметами. Вместе с отрядом переправлены были автоматы, гранаты, винтовки – для контингента, осужденного на искупление вины своей кровью. Еду, медикаменты и прочее довольствие переправить забыли. Лодки с понтонами крепко охранялись – заречные вояки очень были озабочены важными, неотложными делами, ждавшими их по другую сторону реки. Тимофей Назарович Сабельников с добровольными помощниками из пехоты едва успел погрузить на понтоны десятка два раненых бойцов. Не зря так суетны были хозяева плавсредств. Лучезарное утро не разгулялось еще ладом, еще солнцем иней не растопило, но на лике светила возникла уже густая рябь. В самой середине солнца, будто в подсолнухе, зашевелились, зареяли пчелки, неся к реке слитый, мощный гул. Разбитый, разрытый, разворошенный, принаряженный белой пленкой инея, овражистый склон суши снова качнуло, подбросило, обдало удушливым чадом тротила – началась бомбежка, и такая плотная, что казалось, ничего живого на берегу не останется, даже сама рыжая глина и желтый песок, поднятые в воздух, будут сметены в реку и унесены течением и волнами в море.
Наконец-то начала действовать и наша авиация. Вынудили-таки немцы и ее летать не вдогонку, но сейчас, в разгар боя лезть в небесную кашу и расчищать небо над плацдармом. Закружилось, заныло, застреляло вверху. Два бомбардировщика один за другим потянули за собою от реки черные хвосты и упали за высотою, взорвавшись огненным клубом. По небу был развеян весь самолетный строй, сорил он бомбами куда попало и поскорее давал ходу от реки, от зачумленности этого места, называемого плацдармом.
Если бомбардировщики умирали, тяжело рокоча и воя, горели, содрогаясь от рвущегося смертоносного груза и боезапаса, то ястребки, точно птички, подшибленные камнем, ахнув, щелкнув чем-то тонко и длинно, запевали жалобную песню, переходящую в пронзительный вой, рвущий душу и слух, и витки падающего самолета, как и вой его, начавшись как бы с баловства, с легкого и ловкого виточка, забирали все больший круг, все шире кроили небо. Всем на земле казалось, что машина справилась с собою, одолела пространства, сейчас выравняется и, пусть и подшибленная, раненая, устремится домой, к себе на аэродром. Но земля как бы притягивала к себе самолетик, лишала его мощи и воли на каждом витке, самолетик вдруг, всегда вдруг, задирал хвост и шел уже прямо и согласно вниз, взревев прощально каким-то не своим могучим ревом, и тыкался в землю носом, выбрасывал клок черной клубящейся шерсти, и в миру сразу делалось тише, легче, у казенных людей отпускало сжатое сердце – кончилась еще одна маета. Случалось, самолеты взрывались в воздухе, их разносило огненным клубом в клочья; случалось, падали они неуклюже, блуждая по небу, слепо и молча ища опору и успокоения в последнем пике, перевертываясь с брюха на спину, и ударялись в землю грузно, всем корпусом, подбрасывая над собой какие-то части, клочья, ошметья – припоздало доносился хрясткий звук удара оземь тяжелого моторного сооружения, потому как подбитый, точнее, убитый самолет, как подбитая птица, терял свой облик, становился просто предметом, неуправляемым, бесформенным и неуклюжим.