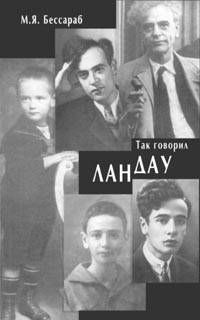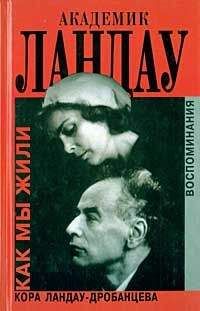— А мы там целуемся!
— С проводницей?
— С Танечкой.
— Он — говно, — рявкнул раненый.
— Кто?
— Градус.
— Молчи!
— Не буду я молчать!
— А ты сам-то! Пришел на дискотеку со своей девушкой и каждые тридцать секунд с ней целуешься! Кто так делает?
— А что тут такого? Это моя девушка.
— Молчи!
Было ясно, что им не хотелось плохо говорить о тренере. Но его поступки натекают на их поведение, вот и бросились на раненого товарища. Реки желчи потекли. Конца этому не предвиделось.
— Каждые тридцать секунд ты с ней целовался!
— А что тебе-то!
— Все должно быть в меру…
— В меру, да? А у тебя три итальянских наконечника, ты с нами не поделился! Если в меру, зачем три наконечника…
Крики понеслись по всему вагону: кто есть кто… В их голосах уже мелькали невидимые шпаги. У меня подскочило давление, пришлось выпить две таблетки андипала. В окне елки, как лешие, мелькали.
— Ребята, — сказала я. — Давайте спать! Ночь ведь.
— Кому-то хочется спать, а нам не хочется! — бросились они в скандал со мной, обрадовались, что нашли жертву: все-таки хорошо, что можно сорвать зло на постороннем.
— Мама никогда вам не говорила, что вы не одни на белом свете? Что надо уважать и других людей!
— Не трогайте мою маму, мы ведь вашу не трогаем!
— Так я вам не мешаю спать.
— А мы не хотим спать.
— Хорошо. Не спите. Но молча. Можно лежать и думать, для чего голова-то дана.
— Не указывайте.
— Послушайте: Бог не для одних вас создал этот мир, этот вагон.
— Он вообще не создавал ничего!
— Зачем вы говорите такие слова? Молчите лучше, а то отвечать потом придется.
— Не придется. Вы знаете, что Гитлер — в раю?
— Боже мой, да что же это за языки у вас, остановитесь же!
— А вы что — философ? Можете с нами поспорить на эту тему?
— Нет, я — писательница, спорить не хочу, я спать буду.
— Вот и напишите рассказ, как мы не давали вам спать.
— Кому это интересно? Рассказ должен ситуацию просветлять, а не затемнять. Тем более, что вы — люди неплохие, а вырастете — будете вообще хорошими, просто разнервничались… это бывает. Сейчас давайте все замолчим.
Ребята пошептались, куда-то вышли (может, покурить, но точно не знаю), потом вернулись и тихо улеглись. Больше я не слышала от них ни слова. Почему? Сие тайна великая есть. Честно, не знаю, в чем дело. В Перми я вышла, а поезд пошел дальше, в Сибирь.
Меня встречали дочери и муж. В глазах у них стояли вопросительные знаки: везу ли я договоры, авансы. Сразу сказала, что нет. Повисло молчание. На привокзалке младшая дочь заметила:
— Зато мама вышла с выражением рассказа на лице!
Слишком хорошо они меня знают. Да, если б заключила договор, ехала б в купе, этой встречи с фехтовальщиками не было б… А так я поняла причину многих российских невзгод: слово расходится с делом. Всегда в чем-то проигрываешь, а в чем-то выигрываешь. Только так и бывает. О жизнь, ты прекрасна, прекрасна!
Алексей Пурин
Ледяной улов
Пурин Алексей Арнольдович родился в 1955 году. Выпускник Ленинградского технологического института. Поэт, эссеист, автор восьми лирических сборников. Заведующий отделом поэзии журнала «Звезда». Живет в Санкт-Петербурге.
* * *
В Париже было жарче, чем в Алжире.
Я в жизни лжи
не видел большей: каменные шири
и бронзовые миражи.
За пот побед был кальвадос мной выпит
на рю де Наварин.
А в Тюильри — Египет!
И Люксембург пылил мукой, как постный блин.
Про мессу не скажу, но он не стоит танца —
мелка река.
От солнца королей и зноя корсиканца
он не очухался пока.
С Монмартра на Пигаль передвигая брюки,
вам, как никто, о скуке
поведать мог бы я вослед Кокто.
Прославленных холстов живая плоть бесплотно
переливалась. Но
я понял, отчего так трепетны полотна:
виной перно —
светящаяся взвесь пьянящего аниса
и конопляный дым…
На суд Париса,
пожалуй, следует являться молодым.
2001.
Умирающий раб. Лувр
Из мрамора бесформенного было
так хорошо и трудно эту грудь
освобождать, что дрема охватила
его — и пять столетий не стряхнуть.
Он все проспал, разметанный устало,
не в силах майку сбившуюся с плеч
снять, — словно вар, Европа клокотала,
теряя кровь и смешивая речь.
И, монумент мильоноликой плоти,
тысячелетий длящаяся нить,
он спит, как завещал Буонарроти.
Silentium! Не смей его будить!
2001.
Ангелы
Миодрагу Павловичу.
1
Посылающий весть
безответных ударов,
Громовержец, ты есть
хоть ничто — для радаров.
Твоей сути копье
не достанет земное:
разве — скинешь свое
оперенье стальное,
сам же — канешь во тьму
(невозможно сужденье
о тебе по нему).
Не летучая мышь —
ты, не ястреб, а лишь —
пустота отчужденья.
2
Как и в птичьем зрачке,
для небесных уродов
сто веков, сто народов —
на смешном пятачке.
И что знают они
о Дунае, о Доне —
вроде линий ладони:
если хочешь — сомкни.
И зови — не зови,
не вмещает их воля
ни тоски, ни любви.
Лишь зачем-то течет
в них магнитное поле —
и куда-то влечет.
1999, 2001.
Дама с единорогом. Музей Клюни
Александру Леонтьеву.
Так эти гобелены хороши,
что и душа, как вышитая дама,
пять чувств земных — радетелей души,
пять оснований радужного храма,
где ткет ее из сора бодрый Дух
и оперяет царственное Слово, —
вкус, осязанье, обонянье, слух
и зренье — все, созрев, вернуть готова.
К чему ей, знавшей щедрую тщету
любви и спесь слепящего искусства,
они — пускай сольются в чистоту
шестого, всеобъемлющего, чувства —
того, что ей подносит истый конь,
лазурь взрезая белоснежным рогом:
она уже пережила огонь,
который люди называют Богом.
2001.
К Гермесу
Тоже в каске, как призрак в студеном и ртутном романе,
ты, Меркурий, — солдат незаметно ведомой войны —
в умозрительных крагах, с махоркой в незримом кармане,
и измараны глиной твои неземные штаны.
Среди груды кремней, с безутешно-немым автоматом,
ты блюдешь перевал в неизвестное — так же, как встарь;
и мечтательный век, расщепивший державы и атом,
вновь листает в землянке свой сербско-хорватский словарь.
Или он в самом деле взошел на волшебные склоны,
где гуляют лихие стрелки и веселые клоны,
где закончен угрюмой истории славный поход?
Или просто в горах, где гнездятся поющие скалы,
где ваяют орлицы из лиц костяные оскалы
и находится издавна в царство подземное вход?
* * *
«Чистилищем», «адом», «раем» —
не все ли равно, как звать
тот край за чертой, за краем,
где плеч твоих не обнять
руке, привычной к теплу их,
к ребячьей игре «тепло —
теплее»… О поцелуях
забудь, волоча крыло.
В бездонном тысячелетье,
исчезнувшем за спиной, —
ладонь и возможность лечь ей
на этот блаженный зной;
и вот им теперь не слиться,
не стать воплощенным сном —
Туринскою плащаницей
с ее опаленным льном.
И что же тогда под словом
«живу» понимаю я,
когда ледяным уловом
и ртутью небытия
моя осевшая лодка
наполнена до краев —
какою кличкой короткой
назвать теперешний кров?
2001.
* * *
Мутные на просвет —
соль, и вода, и свет —
венецианским летом
волны смывают след
наших побед и бед.
Сносу нет их штиблетам.
Нет, не алмаз — обол,
стершийся, как атолл, —
мир: вон тот у причала
вбитый в пучину кол
(вспомни, сколько гондол
лбами в него стучало).
Капля точит гранит,
чайка мутит зенит —
вот и атом устанет
быть пыланьем ланит
и себя возомнит
тем, что есть он, — и канет.
И лишь волне — во мне,
и вне меня — вполне,
как при Ахилле, вольно:
что-то бормочет не —
внятно — словно во сне,
слепо и безглагольно.
2001.