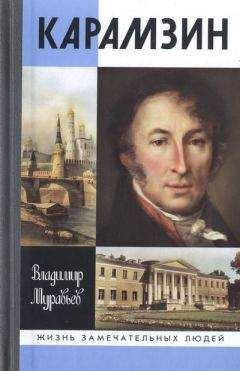Михаил Юрьевич Дроздов — «Этюды о Пномпене»
/зарисовки о Кампучии военного периода/
1.
Пномпень. Каменистый остров среди разлива рисовых полей. Город пальм и велосипедов. Ослепительное обжигающее солнце. Мгновенно темнеющие от пота рубашки. Любопытные взгляды. Улыбки. Встречи. Стихийные митинги дружбы. Только что под окном расстреляли девятерых…
— Теперь мы в расчете? Хорошо?..
Не знаю, хорошо ли. Ошиблись на двоих и не в свою пользу. Считать не умеют? Мы потеряли семь наших. Тот кхмер и вьетнамец были не известно чьи. Пытаюсь объяснить…
Говорят — ничего. Теперь это не имеет никакого значения.
Действительно, теперь это не имеет никакого значения.
— Ну, так как? В расчете? Мир? Дружба?
Соглашаюсь. Пусть будет мир. Пусть будет дружба…
2.
Пномпень. Тропический час. На улице никого. Нет даже мальчишек. Жарко и скучно. Будка укрытая пальмовыми листьями. Автомат на крючке. Снимаю. Отстегиваю рожок. Выщелкиваю патроны. Патронов два. Теперь два. Завтра будет один. Послезавтра ни одного. Если не пришлют смену. Один патрон — одна горка риса на зеленом листе.
3.
Дети как дети. От 12 до 14 лет. На нас смотрят настороженно. Но когда на кого–то из них показываю пальцем, улыбаются.
— Сколько? — спрашиваю.
— Этот — 32.
— А тот?
— 57.
— Ого! — говорю.
— 37… 42…
Одного пропускаю. Обижаются.
— Не меньше 140! — говорят.
— Сколько–сколько?
— Сто сорок! — повторяют с гордостью. — А может и больше.
Останавливаюсь, смотрю. Пытаюсь понять, чем этот отличается от других. Мальчик улыбается.
Цифры — стоимость детей. Цифры — это личный счет каждого. Цифры — количество убитых собственными руками и съеденная печень.
Я достаю из кармана пионерский значок — талисман, который почти два года таскаю с собой, и дарю мальчику…
4.
Очередь с сотню человек. Очередь тянется ни шатко ни валко. Как обычно. Два шага и короткая пауза…
Сопровождающих двое. Один впереди — машет мотыгой. Второй с автоматом стоит в сторонке. Связаны не все. Ждут.
Два шага и пауза — удар мотыгой.
Тому, что с автоматом, скучно.
5.
Мальчишки играют в городки. Выставляют черепа на бугор и сбивают — кто первый. Иногда черепа лопаются, тогда их меняют. Кости хрупкие. Тепло и влажно. Черепов и костей хватит надолго. Их три с половиной миллиона по всей стране. Мальчишки играют в городки.
6.
Меконг. Коричневая река. Стоим по самые уши в воде. Ловим прохладу. Песчаная коса и сразу джунгли. Горкой поближе к воде составлено оружие. Два кхмера, один с автоматом, другой с допотопным гранатометом, прохаживаются по косе наставив оружие в сплетение зелени. Нам хорошо. Стоим в воде второй час. Если не двигаться, то не потеешь. Вода в Меконге коричневая. Палец опустишь — кончика не увидишь…
Наконец выходим на берег, предлагаем — давай теперь вы.
— Нет, — говорят. — Нельзя.
— Почему?
— Крокодилы…
Немая сцена.
Потом через толмача долго вытягиваю суть.
Суть простая: «Вы — белые. Вас они не едят…»
— Почему?!
— Но ведь не съели же?
Железная логика.
7.
Наконец–то с союза привезли зарплату. Чемоданчик с долларами. Каждому полагаются суточные — 18 долларов в день. Зарплату заплатят дома. Впервые вертим в руках бумажки с президентами. Сходимся на мнении, что наши деньги красивее. Авторитетнее.
— Сколько получается в месяц?
— 540.
— А если перевести на рубли?
— Поменьше, но все равно почти две зарплаты. Это если не жрать.
— Ого! Хорошие суточные. А сколько местные коллеги получают? Сходи — спроси!..
— Сколько? Не путаешь?..
— Это что ж такое, братцы? У них зарплата — 3 доллара в месяц?! А я в день его полугодовую?!
— Неудобно как–то… Лучше бы не знал.
8.
Вьетнамцы завалили Кампучию рисовой водкой. Причем, этикетки на русском языке. «Новый рис» — называется. Наверное, знали, что мы приедем.
Местные вьетнамцев недолюбливают. Наверное, потому, что те не позволили им и дальше убивать друг друга.
Вьетнамцы лучшие вояки во всей Юго — Восточной Азии. Мы их очень уважаем. Только вот редко улыбаются.
Кхмеры улыбаются почти все время. Они улыбаются, когда их убивают, и улыбаются, когда убивают сами. Возможно, они владеют какой–то тайной.
О чем бишь я?
Ах, да — о водке!
Бутылка водки стоит… если ихние реалы перевести в центы… это будет…
Мы пересчитываем несколько раз. Какая–то несуразица.
Получается, на свои суточные каждый из нас может купить 76 бутылок водки в день, плюс закуску.
Мы почти час безмолвствуем. Шок.
Потом кто–то спрашивает: «А бутылки принимают?»
9.
Местные все–таки — гады! Когда мы убили кобру — здоровенную — внутрь периметра заползла, посоветовали кровь слить в водку. Вроде как, местный деликатес. Гады! По ночам и так бабы сняться, а тут вообще какая–то вакханалия — все стены во сне исцарапали. Потом выяснилось — это у них продается как лекарство от импотенции. Ну, точно — гады!
10.
Французский разведчик, что под корреспондента косит, больше до нас не докапывается: почему, мол, у «специалистов по хлопку» рязанские физиономии…
(Тоже мне физиономист нашелся!)
Теперь молчит и стонет. Вторую неделю…
Это потому, что мы суточные получили и пригласили к себе.
Пришел с бутылкой вина — наивный…
Миша только четвертый этюд выдумал, находясь под впечатлением увиденного, но на отголоски натыкался все время. Остальное «рисовал» с натуры, все как видел, как это происходило. В том числе и про «Серебряную Пагоду»… Мишу преследовали «головы». Даже не головы, а то, что от них осталось. Тысячи и тысячи черепов в его снах и воспоминаниях не к месту. Устраивался средь афганских камней, а потом казалось, что есть среди них и головы, даже хотелось встать, пройтись и проверить тот или иной камень. Иногда даже вставал, поворачивал камни, зная, что это камни. Не то, чтобы наваждение пугало — по правде говоря — не пугало вовсе, ну разве что самим фактом, но было как–то неуютно.
Все это являлось отголоском Кампучии, это там к костям и черепам относились как к ланшафту. Местные эти скопления показывали с какой–то гордостью, словно испытывали затаенное удовольствие в том, что «белый» может потерять лицо — надеялись увидеть в нем отпечаток хоть чего–нибудь: отвращения или любопытства, словно питались эмоциями, и эти чужие эмоции казались более вкусными, чем собственные. Миша в этих случаях становился рассеянным. Думал, что черепах когда–то были мозги, а в мозгах мысли. И кому–то очень надо было такое сотворить, чтобы мысли исчезли. В этом рейде, который дома считался учебным, и ехали на учебу, но вьетнамцы понятие учебы поняли как–то не так, по своему, пришлось иметь дело с мальчишками, которые едва доставали Мише до пояса, а убитыми казались еще меньше. Можно найти себе оправдание в том, что пуле в этой ситуации было легче найти его, Мишу, но положили мальчишек, уровняли, прибавили черепов, и вьетнамцы, лучше знакомые с ситуацией, никого из лагерной обслуги в плен не брали. А потом нашли время показать и объяснить, чем занималась эта обслуга.
Но Мишу не преследовали школьные классы, разбитые на клетки–камеры вроде душевых кабин, где поместиться можно было только калачиком, ни пыточные приспособления или металлические решетки кроватей для жертв. Не преследовала память, ни лицами, ни телами, одетыми в какое–то тряпье, только черепа. А порой и тела тех кхмерских мальчишек, что дрались столь отчаянно, не сдавались в плен… Впрочем, их и не брали. Не всех.
В смерти нет красоты. Красота есть только в решимости пойти на смерть.
Миша красивыми не расхлябанными буквами написал «СЕРЕБРЯНАЯ ПАГОДА», потом в скобках добавил: «Это к этюдам о Пномпене», потом подумал и еще в одних, уже квадратных скобках, написал: «быль».
БЫЛЬ
— Смотри–ка, а пол в самом деле серебряный, не наврали!.. Плитка болтами прикручена… Отвертка есть у кого?
(Это он так шутит. На кой кому плитка сдалась, даже серебряная, если посередке — золотой Будда в натуральную свою величину? Да еще алмазами утыканный. Впрочем, пожалуй, и Будду не сдвинешь… «Золото — не люминий» — как любил говаривать незабвенный прапорщик Пе–ух.)
— Эй! Не трожь саблю! Знаем мы эти штучки — царапнет где и… — здравствуй лихорадка, прощай комсомолец…
— А ты говорил — сюда с оружием нельзя — грех! А у самих в церкви оружие понавешано.
— Во–первых — только холодное, во–вторых — это не церковь, в третьих — в церкви с оружием можно, в Пагоде — нельзя.
— Ну и оставил бы свой калаш у входа вместе с обувью! Обувь–то снял…
— Все сняли! Ты бы лучше на носки свои посмотрел — совсем сопрели. Палец торчит. И след, между прочим, за собой на полу оставляешь.