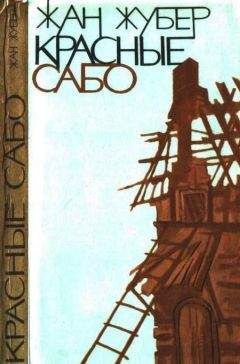Иногда он вдруг останавливался, прижимался спиной к стене и стоял, упрямо насупившись.
— Эй, пошли быстрее! Ты чего?
— Неохота домой, — отвечал он.
— Вот ненормальный! Ты что, всю ночь здесь собираешься торчать?
Глядя под ноги, он пожимал плечами:
— Иди давай, а то опоздаешь.
— А ты?
— Да ну!..
Но я тянул его за рукав, и он наконец сдавался. Мы расставались у его калитки. В глубине сада, за деревьями, светилось кухонное окошко, и, если в доме было тихо, он успокаивался. Тогда мы прощались, он быстро толкал калитку. Но иногда, остановившись у ограды, мы, одинаково смущенные, слушали хриплую брань и выкрики его отца и приглушенный голос матери, отвечавшей ему. Двери в доме с треском хлопали, а однажды раздался грохот разбиваемой посуды.
Я до сих пор помню, как Банье идет по дорожке к дому — маленький, щуплый, в черной рубашке, стянутой пояском, в носках, спускающихся на ботинки. Я знаю: иногда ему приходилось прятаться в саду и пережидать, пока буря в доме не утихнет.
С тяжелым сердцем я бежал по улице и входил в кухню: там было светло, тепло, стол накрыт, и отец спрашивал:
— Ну, полуночник, где ты пропадал?
— Мы играли в карьере.
— Вы прямо не вылезаете из этого карьера! Показывай, что принес сегодня?
Я предъявлял ему свои трофеи, и он с интересом разглядывал их.
— Да они у тебя тут задохнутся, — говорил он, — пойди-ка пересади их в лохань — и быстро за стол!
В хорошую погоду мы оставляли открытой дверь кухни, и тогда до нас доносились крики из соседнего дома.
— Какое несчастье! Бедная женщина! — вздыхала мать. — Это плохо кончится.
Я ел суп и думал о Банье, который, наверное, сидит сейчас за кустами смородины, а рядом с ним банка с головастиками и саламандрами.
Позже мы сменили территорию игр, отважившись продвинуться дальше, на поляну, что за портомойней, за пастбищем и заливными лугами. Мы шли туда по рыбацким тропинкам, вдоль стариц под тополями. Голоса прачек и стук вальков постепенно затихали. Белые и рыжие коровы шумно дышали за оградой лугов. Здесь нас окружал зеленоватый свет, запах мокрой листвы и воды.
Я и правда очень любил нашу реку, тихо несущую свои глубокие, темные воды под сенью ив и тополей. Она возникала внезапно: вдруг из зарослей ирисов и мальв выныривало ее длинное блестящее тело — река напоминала огромную великолепную змею, и мы смутно чувствовали в ней опасность. С тихим причмокиваньем лизала она низкие берега, и ее холодный поток теребил и раздергивал зеленые косы ив. Порой по ней проплывали растрепанные травяные островки с крохотными белыми цветочками и стрекозами. Я вспоминаю приветливые старицы, по которым мы шлепали босиком, островок с заброшенной хижиной, плот из бидонов и досок, который мы проталкивали по протокам сквозь камыши с помощью длинного шеста, распугивая нырков и зимородков. По весне над лугами стоял густой запах сена.
Позднее, в пятнадцать-шестнадцать лет, я тоже наведывался сюда, но я был уже не тот: я вступил в период душевного смятения и меланхолии. Привалившись спиной к стене лачуги, я читал книги. У меня не было ни озера, ни Комбурга, как у Шатобриана, ни пастушьей хижины, но была река, слабое подрагивание листьев и рябь на воде — они питали мою юношескую тоску. Я воображал, что живу здесь, вдали от всех, в этой скромной лачуге, как монах, пишу стихи, разговариваю с птицами, или еще так: в один прекрасный день на берегу появляется заблудившаяся юная девушка с цветами в руках. Время индейцев и негров миновало, но страсть к мечтам не иссякла во мне. Тогда-то, мне кажется, душа моя и замерла в долгом ожидании, которое все еще длится. С книгой под мышкой, мрачный, я шел обратно домой по проселочной дороге. Я неохотно возвращался к людям. От портомойни по улочке поднимались в поселок все те же старухи в серых фартуках, толкая перед собой тачки, нагруженные выстиранным бельем.
Я сижу допоздна, вновь обретая привычное течение моих отроческих вечеров. Вот мать запирает калитку и вешает ключ на гвоздь под почтовым ящиком. Вот она проходит по двору, в доме хлопают двери: одна, потом другая, и по наступившей тишине я догадываюсь, что она наконец легла спать. По всей нашей улице в окнах погас свет, одно только мое окно упорно продолжает светиться, и я вспоминаю все те ночные города, по которым ходил пешком, и то, как всегда зачаровывали меня эти редкие, одиноко горящие во тьме огни, выдавая тех, кто бодрствует, когда весь мир уснул. Иногда я подолгу стоял под такими окнами, тщетно пытаясь разгадать тайну мужчины или женщины, заставлявшую их не спать среди этого пустынного сонного царства. Мне казалось, что только они могут вдохнуть в мою душу любовь, меня тянуло к ним, к их ночному бдению, они словно стояли на страже в своей невидимой башне. Ибо, кроме этого светлого прямоугольника, я ничего не мог различить, и мне оставалось лишь гадать, что побуждало их держаться вот так особняком. Часто я думал: может быть, там читают или пишут книгу, ведь книга способна целиком захватить нас, вырвать из привычного круга бытия. Лачуга стрелочника, мелькавшая на перегоне между Монтаржи и Морэ, была лишь одним из вариантов этой неисчерпаемой темы. Я чувствовал: все мы принадлежим к одному тайному сообществу, где каждый, однако, безнадежно одинок и, встретившись, мы не признаем друг друга.
Итак, вот уже несколько недель, как вновь начались мои ночные бдения, а ведь в последние годы усталость от повседневного труда, а может быть, и возраст вынуждали меня вести общепринятый образ жизни. И только смерть отца, пошатнувшая все мое устоявшееся существование, пробудила во мне старую любовь к ночным часам с их вопрошающей тишиной.
Эти вот записи, которые я делаю, моя рука, авторучка, лист бумаги в светлом круге лампы, порой долгая пауза между двумя фразами, как пролом в стене, откуда внезапно врываются бешеные полчища образов, восстающих против слов, которые пытаются уловить их, запечатлеть, — все это также связано для меня с первыми радостями от «моей собственной комнаты», самого драгоценного подарка моему отрочеству. Я так долго страдал от того, что живу в столовой, и эта комнатушка на втором этаже показалась мне чудом из чудес. Особенно прекрасными были вечера в ней — тишина и уединение буквально гипнотизировали меня, я безоглядно погружался в ночное бодрствование и не слышал даже часов на колокольне, отбивавших там, вдали, время. То был период — мне должно было исполниться четырнадцать лет, — когда я читал все, что попадалось мне под руку, и любая, даже посредственная книга завораживала меня. В конце концов и меня смаривал сон, и я, осторожненько ступая, стараясь не скрипнуть паркетом, шел спать. Однако мою мать, у которой был чуткий сон, нелегко было провести, и каждый вечер, когда я целовал ее на ночь, она говорила: «Спокойной ночи. И не засиживайся слишком поздно».
Вот и теперь ночь проходит, но моя книга все не отпускает меня, или, вернее, книга как бы только средство вызвать из прошлого и вновь погрузить в небытие сцены и лица, большинство коих давно уже исчезли. Мне чудится: вокруг меня возникают шорохи, шепоты, как будто все эти ожившие мертвецы робко толпятся за моей спиной, с тревогой стремясь поймать свой последний шанс ускользнуть от забвения. Иногда я ловлю себя на том, что повторяю какие-то слова. Меня здесь нет, я где-то далеко. Я мало говорю с другими людьми, даже с матерью, которая на мои расспросы не сообщает мне почти ничего нового, ничего, кроме того, что я и сам давно знаю. Сухим фактам, точным датам я доверяю меньше, чем этим вот накатывающим, как волны, откровениям, всегда удивительно живым и ярким, пробужденным каким-нибудь случайным словом или воспоминанием. Вот только что я ясно ощутил запах воды и сена, увидел трепещущую рябь на поверхности реки, услышал перестук вальков. И лишь тогда начали возникать лица. Настоящее с каждым днем все больше отодвигается от меня в нереальность, а поскольку все здесь еще проникнуто, пропитано духом моего детства, любой, самый мелкий предмет вызывает бесконечные возвраты в прошлое. Особенно по ночам… порою меня начинает тревожить это новое направление моего ума. Напрасно я успокаиваю себя тем, что это пройдет, я чувствую, как прошлое завладевает мной. Лангедок, мой тамошний дом кажутся мне такими далекими, как будто я покинул их много месяцев назад. Я думаю о Жюльетте, о детях, пытаюсь убедить себя, что пора к ним вернуться, но моя решимость быстро ослабевает, и я малодушно откладываю на неопределенный срок то, что минуту назад готов был совершить завтра же. И я подозреваю, что то чувство долга, о котором я говорю, та явившаяся необходимость после стольких лет равнодушия сродниться со своими предками и описать, спасти от забвения их бытие, пока не стало слишком поздно, — все это лишь показное. Иногда ночью, когда я сижу за столом, рука моя застывает над бумагой, я не в силах писать, зная, что должен искупить какую-то неведомую ошибку, вину, которой даже не умею найти название. Я не чувствую себя ни счастливым, ни несчастным, я просто сижу в каком-то оцепенении. Будто чье-то заклятие удерживает меня на месте, подобно тем парусникам из легенд, что навеки затянуты в плен цепкими щупальцами-водорослями Саргассова моря, словно попали во власть волшебника. Все недвижно, ни малейшего дуновения. Горизонт все так же пуст, и жадно ищущий взгляд затуманивается. Прошлое и настоящее смешиваются воедино.