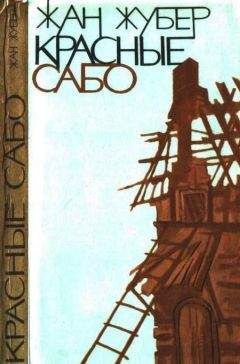Вот тогда-то я и сказал себе, что должен уехать отсюда.
Я сказал матери:
— Мне пора возвращаться.
— Да, я знаю. Когда?
— Сегодня вечером.
— Сегодня? Так быстро?
— Меня столько работы ждет. Надо готовиться к лекциям. Тебе немного полегчало?
— Да, полегчало, ты не беспокойся обо мне.
— Ты не хочешь поехать со мной сейчас?
— Нет, не сейчас. Тут еще множество дел нужно будет уладить…
— Я тебе напишу. А через несколько недель приеду за тобой.
— Хорошо. Ты что, всю ночь будешь ехать?
— Да.
— Это неразумно.
— Не бойся. Если я почувствую, что устал, я остановлюсь.
— Ну как хочешь.
Потом я звоню Жюльетте из уличного автомата, возле почты.
— Я возвращаюсь.
— Вот хорошо! Когда?
— Завтра буду дома. Наверное, рано утром. Но я точно не знаю, в котором часу. Все будет зависеть от дороги.
— Ты собираешься ехать всю ночь?
— Да, так лучше.
— Будь осторожен. Ты хорошо себя чувствуешь?
— Ничего, неплохо.
— Выпей кофе на дорогу.
— Ладно.
Дети, в новенькой форме, с новенькими ранцами, с криками выбегают из школы. Они бегут мимо магазина похоронных принадлежностей. Одни поворачивают направо, наверное, сейчас зайдут в кондитерскую. Другая группа вприпрыжку пересекает площадь. Я отворачиваюсь. Я больше не хочу их видеть.
Я отправлюсь в сумерках. Проеду по нашей улице, приторможу перед поворотом и, взглянув в зеркальце заднего вида, увижу у калитки мать, машущую мне рукой. С тяжелым сердцем я махну ей в ответ в последний раз. Я сверну на Вокзальную улицу и миную стоянку автофургонов, неоновые вывески гаражей и серые от тумана и копоти домишки. И еще раз подумаю: уродство, скука, нужда. Проезжая мимо вокзала, я взгляну на часы на его фронтоне и машинально сверю их со своими. Потом пересеку Лашоссе, пустыри и стройки давно снесенного предместья, где теперь вырастают башни домов, кое-где наверху уже горит в окнах свет.
Я мельком подумаю о дяде, чей дом стоит чуть дальше, за ними, — маленький домик, зажатый между этими бетонными глыбами, но пока еще целый. Там Жаклина, наверное, сейчас готовит себе ужин на газовой плите, а наверху, в мансарде, стоит, прислоненный к книгам, портрет Андре.
Я пересеку Неверскую железную дорогу через переезд, из осторожности поглядев и направо и налево, как делал всегда: наверное, так повелось еще с тех пор, как мы переходили рельсы, отправляясь на прогулку в лес. А дальше я поеду по сельской местности мимо рощ, живых изгородей, невысоких холмов, то тут, то там встречая деревушки, сгрудившиеся вокруг церкви с колокольней, четко вырисовывающейся среди последних отблесков дня в сумеречном небе. На перекрестках передо мной встанут столбы-указатели: Шаторенар, Шантекок, Сен-Жермен-де-Пре, Куртене, все эти названия местностей и деревень, подобно названиям церковных соборов, мирных договоров или битв в учебниках, обозначают вехи моей собственной истории. Может быть, на миг у меня явится искушение остановиться и заглушить мотор, чтобы вслушаться в еле различимый шепот и тихое дыхание родной земли, но я не поддамся ему, ведь я и так наизусть знаю, помню шелест листвы, лай собак во дворе фермы, приглушенный расстоянием, жалобный крик ночной птицы. Достаточно с меня на ходу бросить взгляд на молочные озера тумана, стоящие в низинах лугов, откуда торчат верхушки деревьев, рощиц, выступающих из него темными островками, достаточно вдохнуть запах перегноя и унавоженных осенних полей. Я поеду дальше, пересеку Куртене, ночной пустынный Куртене с его крытым рынком на площади, и наконец выберусь на автостраду.
И вот там, на этой чистой, гладкой, безликой ленте шоссе, я внезапно испытаю пронзительное ощущение грусти и одновременно облегчения при мысли, что оторвался от родной почвы. Я включу радио, настрою его на волну «Франс-Мюзик» и помчусь по шоссе, устремив взгляд на однообразный серый, летящий мне навстречу асфальт; может, мне повезет, и я услышу Вивальди, Равеля или Моцарта. Я буду ехать по знакомому, сотни раз пройденному маршруту с давно привычными указателями — в последний раз я в спешке ехал по нему в обратном направлении, зная, что в конце дороги меня ждет умирающий.
Я проеду через Морван с его речными запахами и илистыми отмелями. Ночь сгустится вокруг меня. Над Бургундией зажгутся звезды. По левую руку от меня останется Шалон, а вдали Макон, как тлеющая горстка углей. Я проеду через Лион — пустой и гулкий ночной коридор — и сверну на набережные Роны, где нефтеочистительный завод будет дымить всеми своими трубами и светить прожекторами и гирляндами лампочек на металлических мачтах. Почувствовав, что меня слегка сморило, я остановлюсь возле одной из современных станций обслуживания, сияющей хромом и стеклом, — там я заправлю бак горючим и выпью кофе. Я увижу, как встает заря над Балансом, и, как всегда, почувствую, что пересек какую-то невидимую границу. Нежно-лиловый небосвод, расчищенный ветром, мало-помалу заголубеет, вот уже и Юг. Я узнаю его сады, виноградники, ланды. Пик Сен-Лу внезапно вынырнет меж двух холмов, отодвинется и исчезнет, и вновь возникнет вдали, массивный, еще темный на фоне разлившейся зари. Вандарг, Кастри… здесь я опущу стекло машины, и в нее вольется утреннее тепло, стрекот кузнечиков, ароматы тмина и хвои. Я въеду в поселок, заверну в свой двор, выйду из машины, разминая затекшие ноги, проведу рукой по глазам, утомленным длинной дорогой, и открою дверь своего дома.
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, с. 404–405.
Слова «Сен», «руа» и «пёпль» означают «святой», «король» и «народ». — Здесь и далее прим. перев.
Американский писатель Генри Торо (1817–1862) в книге «Уолден, или Жизнь в лесу» рассказывает о своей отшельнической жизни в лесу в построенной им хижине на берегу Уолденского пруда.
Неведомая земля (лат.).
Намек на роман Томаса Манна «Волшебная гора», где события тоже происходят в туберкулезном санатории в горах.
В последнюю минуту (лат.).
Вы говорите по-английски? Я люблю вас! (англ.).
Перевод И. Озеровой.
Война… плохо, мир… хорошо, рабочий… брат (нем.).
Спряжения немецких глаголов «спрашивать» и «видеть».
Называть… гореть… мочь… (нем.).
Стол, дверь, окно (нем.).
«Пою оружие и мужей…» (лат.) — начальная строка «Энеиды» Вергилия.
Любимая… Сокровище мое… Мне страшно… Я жду… (нем.).