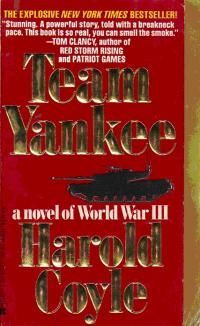— Гильотка-идиотка! Гильотка-идиотка!
— Я папе на вас скажу, и он вас в крыс превратит!
— Молчать, человечки!
Толстяк угрюмо смотрел на веселящихся одноклассников, опоражнивая банку за банкой, и утешал себя мыслью, что эти диетики в зад ему не годятся.
Но вот кончилась последняя банка. Билли-Боб с трудом поднялся на ноги и принялся вертеть головой, пытаясь найти Эшли в праздничной толпе. Баптисты заиграли «Shake Your Booty»,[195] причем как-то особенно сладостно. И тут сквозь сентиментальный музыкальный фон оболтус уловил звук знакомого звонкого голоса, которого не слышал со времен президентства папы бушского.
У дверей зала, где было потише, стояла стайка женщин. Среди них смеялась и щебетала первая билли-бобовская любовь, такая же блондинистая, крутогрудая и длинноногая, как десять лет назад.
Балда нацелил на стайку пуп и затопал туда. Когда он подошел к Эшли, она рассказывала подругам о детях и об успехах мужа-адвоката, того самого Тима, который когда-то бил Билли-Боба.
— В прошлом году мы провели отпуск на Бермудских островах, а в этом году едем на Багамы, — весело сказала молодая матрона и отпила глоток из бокала с минеральной водой, в которой плавал ломтик лайма.
Оболтус смутно представлял себе, что Бермуда — это курорт на Тихом океане, а Багамы находятся где-то в Африке. Но не это его занимало.
Он ткнул женщин брюхом, сбив некоторых из них с толку, если не с ног, и плотоядно ощерился:
— Пончик, привет!
Ошарашенные экс-школьницы онемели. Билли-Бобу только этого и надо было.
— Эй, красухи, как дела? Вы не замечали, что у нас в городе все больше мокроспинников? Скоро здесь никто не будет говорить по-американски. Захожу я вчера в «Хутерс», а там половина народу сидит в сомбреро. Как инвалид здоровья я протестую! Проклятые мексиканцы отнимают у нас, коренных арканзасцев, работу.
Дамы в изумлении смотрели на оплывшую обомшелую фигуру. Некоторые побледнели от ужаса, Эшли в первую очередь.
Билли-Боб принял страх за похоть.
— Помнишь старого друга? — заорал он и обхватил красавицу за талию. — Беби, пойдем потанцуем. Тебе будет со мной хорошо, гарантирую!
— Отстань, урод! — Возмущенная жена и мать стукнула болвана бокалом, обрызгав его «Perrier», но тот даже не моргнул.
— Давай-давай не ломайся, я те покажу настоящий арканзасский класс!
— На помощь! На помощь! — умоляюще закричала Эшли, простирая руки к испуганным подругам.
— Ты, я вижу, с темпераментом, — ухмыльнулся угристый ухажер. — Это хорошо: люблю когда чувиха в кровати вопит и брыкается! (За прошедшие годы Билли-Боб насмотрелся порнографических видео и поэтому считал себя знатоком женской психологии, а также анатомии.)
Грубиян сунул Эшли под вонючую мышку, оттопырил попу, заполнив ею треть помещения, и принялся скакать под мелодию «Let’s Spend the Night Together»,[196] неуместно зазвучавшую как раз в этот момент. При каждом скачке он орал: «Расступись, братва, я — Кинг-Конг», — и радостно отрыгивался.
Наконец баптисты заметили переполох в зале и перестали водить смычками по струнам. В наступившей тишине вопли Билли-Боба звучали особенно грозно, крики Эшли — особенно жалобно.
Увы, Тима там не было. За полчаса до этого он уединился в туалете с приятелями, чтобы побаловаться по старой памяти травкой.
— Я не люблю марихуану, я люблю экстази.
— Ты, Дантон, сначала подрасти, а потом употребляй наркотики!
После второй самокрутки Тим все-таки услышал Эшлины крики, хотя и находился в приятном расслаблении. Адвокат бросил душистый бычок в бачок, махнул приятелям, — пошли, мол, морду бить — и помчался на тревожный зов. Когда Тим увидел образину, тискающую любимую жену на глазах у всего выпуска, он осатанел. Могучий юрист вырвал полубессознательную матрону из вражеской мышки, отвел ногу назад — и ботинок 50-го размера утонул в мрачном ущельи между мохнатыми полушариями.
Простак распластался на потолке.
Тим и его команда соскоблили Билли-Боба оттуда, выкатили на улицу и выбросили в кювет.
Болван лежал в темноте, подперев голову о тротуар, и стонал от боли и унижения. Заодно он строил планы мести счастливой чете Стивенсонов. То он думал устроить в их фешенебельном доме помойку, то похитить Эшли и насильно ее закормить, чтобы она по размерам стала похожа на его покойную родительницу. Тут Билли-Боб зарыдал, орошая асфальт нечистыми слезами. Ведь, милые человечки, даже у самого сального свина есть в душе хлевок, где преет любовь к заветному и дорогому. Этим для нашего антигероя была его мертвая мама — пусть тоже толстая, щетинистая, злобная, но по-утробному ему близкая. Госпожа Долтон умерла от несварения желудка вскоре после того, как Билли-Боб окончил школу. Не имея денег на похороны, толстопуз закопал ее за трейлером. Когда в его жизни наступали трудные минуты, он выходил во двор, вдыхал родной трупный запах и сразу чувствовал себя лучше…
Балда пролежал в кювете не минуту, не час, а всю ночь. Праздник давно закончился, выпускники разъехались по домам и кондоминиумам, а он все еще валялся там, где был брошен своими мучителями.
Наступило утро. Вскоре арканзасское солнце, столь полезное для пресловутых помидоров, уже пылало вовсю, но избитый изгой продолжал страдать и валяться напротив теперь уже окончательно ненавистной школы. Лишь где-то около полудня, после того как пара полицейских велела ему в прямом и переносном смысле очистить обочину, заковылял он обратно к себе в трейлер.
— А я в прошлом году к нам милицию вызвал.
— Зачем, дорогой Дантон?
— Чтобы брательника с сеструхой в детдом отдали.
— И что, получилось?
— Не. Родители подняли конкретный шухер, хотели в угол меня поставить. Но потом они успокоились и сказали, чтобы я так больше не делал.
Придя к себе, Билли-Боб повалился на топчан, вытащил из ширинки теплого лосося — сувенир школьного визита — и подложил его под голову. Подложил — и задумался: как ему быть, что делать, куда пойти.
Вдруг в желудке у него заиграло, в пищеводе защемило, в глотке защекотало, и из ненастной билли-бобовской пасти высунулась блестящая белесая башка размером с десятицентовый гривенник. За ней волочилось длинное белесое тело, похожее на макаронину.
Башка завертелась, принюхиваясь к окружающей среде (глаз у нее не было), и потянулась к лососю.
— Здравствуй, дружок, — сказал про себя изумленный обжора. Сказать вслух он ничего не мог, ибо склизкий незнакомец закупорил ему голосовые связки.
Рядом с топчаном раздался стук: это питбуль Уингз упал в обморок.
Билли-Боба озарило. «Вот почему все эти годы я так много жрал, вот почему у меня все время болело брюхо», — подумал он и понимающе булькнул.
Глист — ибо то был он — шмякнулся о розовую рыбину и принялся ее сосать, прямо под носом у толстяка. А потом окончательно вылез из Билли-Боба, вытянулся на полу — длиной гаденыш был с недобрый метр — и потащился к двери.
Паразит полз, подрагивая от усилий, по грязному ковру, грязному коридору, грязному порогу, грязному двору. Даже видавший виды червь не мог больше переносить неразборчивости в еде своего носителя. Он хотел найти себе нового невольного хозяина.
Милые Дантон, Демулен и Гильотина! На этом моя сказка кончается. Мораль ее проста: если будете грязны, то помрете до весны.
Приятных кошмаров, дорогие человечки!
Я узнаю потрясающую истину о своем происхождении, но остаюсь таким же милым и скромным, как раньше
— Алло.
— Ага.
— Это Дантон?
— Не, Демулен.
— Здравствуй, человечек. Говорит профессор Харингтон.
— Ага.
— Он же дядя Ролик.
— Ага.
— Пожалуйста, позови папу.
— Папы нет. Он на летучке.
— В институте?
— Не, в космосе.
— А мама дома?
— Ага.
— Попроси ее к телефону.
— Она не может.
— А что такое?
— Мама какает.
— Тогда скажи ей через дверь, что звонил профессор Харингтон.
— Ага.
— Он же дядя Ролик.
— Ага.
* * *
В тот же вечер я был у Гасхола Торезовича, Роксаны Федоровны и трех их лютых малюток. Некромант пригласил меня в гостиную, где я уселся на памятном покойном кресле под портретами Кроули и Купера. В комнату вбежали Водольята и принялись лазить по стенкам и по мне. Попутно они задавали своими тонкими детскими голосами вопросы, свидетельствовавшие о глубоком впечатлении, которое я произвел на них как бебиситер.
— Дядя Ролик, если Билли выстирать в стиральной машине, он станет чистым?
— Дядя Ролик, когда Билли закопал свою маму в землю, она превратилась в зомби?