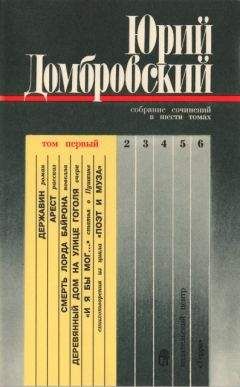— Например, — сказал Гамба, уже знавший кое-что об издательских планах Байрона, — «Греческий телеграф».
Байрон отрицательно покачал головой. Мысль о газете мучила его, и он носился с ней, пожалуй, не меньше, чем с планами о боевом судне или осаде турецкого города.
— Из этого дела, — сказал он задумчиво, — ничего не получится. Правда, он дал деньги — и немалые — на подобное же издание, но в успех его мало верит. Причины? — они ясны для него! Всякое бесцензурное издание в Греции обречено на скорую гибель уж потому, что его некому будет одергивать. В Греции еще нет общественного мнения. Свобода превратится в свою противоположность.
Гамба смотрел на него, утвердительно качал головой и думал, что здоровье его друга совсем не так плохо, как его хотят представить. У него очень крепкая голова, если он в этом аду не потерял еще ни бодрости логично мыслить, ни способности правильно расценивать свои и чужие поступки. Бесцензурная газета на греческом архипелаге, где о культуре говорят только тысячелетние развалины да мраморные обломки, выкопанные из земли! Газета на трех или четырех языках в стране, где толком не знают одного! Действительно, черт знает что. Но Байрон вдруг прервал самого себя.
— Газета на трех языках, — сказал он тихо, думая совсем о чем-то другом, — это хорошо звучит, друг мой. Но мне пока не до газеты. Земляные работы находятся в безобразном состоянии, бастион — старая развалина, достаточно двух-трех полевых орудий и мы все взлетим на воздух. Накануне предполагаемой осады начинают проверять полковые списки, и вот оказывается, что половина солдат числится только на бумаге. Почему? Я понял все только, как посмотрел на откормленную рожу командующего. Командиры получают деньги за бумажные головы, а я сижу и жду, когда из Англии прибудут пушки.
Он засмеялся и ударил Гамбу по плечу.
— Впрочем, нет, дорогой, — сказал он лукаво, — я не только жду, я кое-что и делаю. Один из наших пиротехников, уезжая, поручил мне распространить между солдатами библию на новогреческом языке, и я охотно взялся за это дело. Очень хорошая бумага и переплет. Когда зайдете ко мне, я вам покажу их. Двадцать штук еще лежит в моем кабинете.
Гамба взглянул на него с опаской. Лицо Байрона было желтое и левая сторона рта время от времени подергивалась, как в припадке. В сущности, и в этом не было ничего страшного, он видел, с какими лицами разговаривают о здешних порядках прирожденные греки, но Гамба все-таки встревожился. Он подошел к окну и отдернул штору. Дождя еще не было, но сырое небо спускалось все ниже.
— Если бы не дождь, — сказал Гамба, смотря на воду залива, — я предложил бы вам съездить в оливковую рощу, но погода такая... — Он ждал, что скажет Байрон.
Но Байрон даже не посмотрел в окно. Он только положил руку на плечо Гамбы.
— Чепуха, — сказал он, — сегодня я получил два с половиной миллиона. Это бывает не каждый день. Едем!
III
В трех милях от города их застал дождь. Свежий морской ветер рвал шляпы и бил по глазам ошалевших лошадей. У оливковой рощи вдруг сильно запахло морем. Волны, прежде грузные и тяжелые, теперь легко прядали на острые камни и рассыпались в желтую пену. Две большие белые птицы, почти не махая крыльями, косо пронеслись мимо них. «Гроза, — подумал Гамба, — и надо ж было ехать.» «Альбатросы, — подумал Байрон, — как они низко летят над морем.»
Дождь, мелкий, но хлесткий, бил его по одежде, и почва под ногами коней расползалась бурой, жирной грязью.
— Вот, — сказал Гамба, — я говорил.
Байрон скакал с ним рядом молча, вглядываясь в серую дымку дождя. Его мокрое лицо пахло морем и было серьезно.
— Пожалуй, умнее всего, — сказал Гамба, задыхаясь от дождя и ветра, было вернуться.
— Ну что же, — сказал Байрон, не поворачивая головы, — вернемся.
IV
Через пять минут они подъехали к рыбацкой хижине, где их обыкновенно ждала лодка. Попав на кремнистую тропинку, кони опустили уши и пошли широким неторопким шагом. Тут Байрон, молчавший почти всю дорогу, вдруг оживился. Он легко соскочил с коня и, почти не хромая, хотя и эта дорога была сильно размыта, побежал вниз по тропинке. Гамба следил за ним с неудовольствием. Бодрый вид Байрона почему-то ему очень не нравился.
— Вам надо обязательно переменить одежду, — сказал он хмуро. — Вы простудитесь.
Байрон посмотрел на него с улыбкой.
— Вам нет оснований опасаться за мою жизнь, — сказал он любезно, несчастен для меня только один день в неделе — воскресенье. Сейчас же, если не ошибаюсь, — понедельник. Зато год, в который мы живем, для меня очень несчастлив! 22 января 1824 года мне исполнилось тридцать шесть. А этот возраст для меня роковой, я должен умереть.
Последние слова он сказал, грассируя в нос и, как показалось Гамбе, с легким кокетством.
— Неужели вы серьезно верите в эту чепуху? — спросил Гамба с досадой.
Байрон отрицательно покачал головой.
— А вы, — спросил он вызывающе, — вы тоже не верите? Помните, как полковник Стенхоп сказал мне, что он не может поручиться за жизнь даже одного английского пиротехника, и их пришлось отправить обратно. А ведь они были самые обыкновенные английские солдаты, даже без репутаций турецкого подданого, который сопровождает вашего покорного слугу. — Он засмеялся.
Высокие башмаки Байрона тяжело ступали по грязи, рассыпая звездчатые брызги. Вошли в хижину.
— Это насчет года, — сказал Байрон, останавливаясь у порога. — Припадок же со мной случился 19 февраля, и когда я очнулся, моей первой мыслью было спросить, что это за день. Мне ответили, что воскресенье. Ну, конечно, сказал я.
Он сел на скамью и снял с головы широкополую шляпу. Шляпа была тяжелая и мокрая, как только что убитая птица, и он отбросил ее на стол. Хозяин хижины — грек Газис, — улыбаясь и кланяясь, побежал заказывать лодку.
Гамба смотрел на Байрона. Все это ему очень не нравилось. После последнего припадка для него, как и для всех друзей, стало ясно, что дни Байрона сочтены. Эта мысль не сразу пришла ему в голову, но оттого, что она наконец пришла, Гамба почувствовал, как у него заломило под ногтями. Он сейчас же стал прогонять от себя эту мысль. Байрон молод, — говорил он сам себе. У него богатырский организм, он ловок, смел, жизнерадостен. Кто другой может выстрелом потушить свечку или переплыть Геллеспонтский залив? Кто другой может вынести эту постыдную торговлю из-за денег, эти постоянные стычки с греками, англичанами, итальянцами? Кто другой мог остаться жизнерадостным и твердым, видя, как превращается в ничто дело его жизни? Один Байрон! Бредни выжившей из ума старухи о каком-то особенном смысле тридцать седьмой годовщины его жизни не заслуживают даже просто внимания. Кажется, сама судьба хранит его голову. Ведь хватило же у него благоразумия отказаться в последнюю минуту от поездки на Ариель в тот самый день, когда погиб Шелли. Байрон согласился сперва на эту поездку, даже торопил Шелли, а потом вдруг взял и отказался. Почему? Нет, видимо, сама судьба хранит его красивую беспутную голову.
Так думал Гамба, отходя от Байрона. Но ему достаточно было взглянуть на него опять, чтобы снова понять его обреченность. Даже в припадке его истерической ребяческой проказливости он стал видеть признаки наступающей развязки. Байрон стал бояться всего: воскресного дня, разбитого стакана, соли, рассыпанной на столе, года, в котором он жил. И в то же время эта страшная боязливость не вязалась с его обычным презрительным бесстрашием.
И только теперь Гамба стал понимать смысл стихов, написанных Байроном в день его рождения. Стихи были длинные и кончались они так:
И если ты о юности жалеешь,
Зачем беречь напрасно жизнь свою?
Смерть пред тобой — и ты ли не сумеешь
Со славой пасть в бою!
Ищи ж того, что часто поневоле
Находим мы; вокруг себя взгляни,
Найди себе могилу в бранном поле
И в ней навек усни!
Найди себе могилу в бранном поле. Ах, если бы с Байроном теперь был Шелли!
Он вдруг вздрогнул, почувствовав на себе тревожный, но неподвижный взгляд Байрона. Байрон смотрел на него со своего места, желтый и прямой. Его губы кривила детская беспомощная улыбка.
Гамба ласково взял его за плечо.
— Джордж, — сказал он, — ехать в лодке сейчас нельзя. Вы промокли и замерзли. Вам надо размяться и согреть кровь. Лошади наши еще не расседланы. Поедем обратно верхом. — Байрон отрицательно покачал головой.
— Какой же я солдат, — сказал он, — если буду бояться такой чепухи?
Он встал с места и, хромая больше, чем обыкновенно, пошел к выходу.
— Смерти я не боюсь, — сказал он хмуро. — Смерть — это чепуха. Но я до сих пор не могу понять себя. Я тридцатисемилетний мальчишка, который не хочет сделаться стариком. И вот я не соглашаюсь со своей старостью, а старость приходит, мой друг. Она настойчиво стучится в стенки моего сердца. — Он говорил теперь медленно, и пот струился по его лицу.