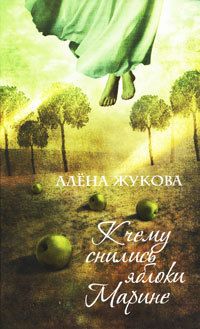– Мама! – рявкнула басом Тоня, тряся в воздухе ножом. – А где вилочки для рыбы? Ты куда их засунула? В ящике нет, в коробке тоже.
Вера криво усмехнулась и посоветовала дочке вспомнить, когда и кому из соседей она их одалживала.
– Опять ты за свое! Да не брала их Белла! Чуть что – сразу она. Между прочим, когда Белла что и одалживает, так всегда возвращает чистеньким, отмытым, отглаженным, не то что эти Курдюковы. После них противно вещь в руки взять, а ты им даешь. А вот когда Белла приходит, так ты – морду ящиком. Думаешь, я не знаю почему? А просто для тебя фамилия Курдюковы гораздо приятнее, чем фамилия Мильштейн. Мне надоели твои мерзкие штучки – щупаешь, проверяешь, зудишь, что Белла все подменила. И про ее еврейскую хитрость уже слышать не могу. Помнишь, как ты серебряную ложку в мусорное ведро уронила, а Беллу воровкой обозвала? А потом, вместо того чтобы извиниться, вспомнила про Исход. На смех курам! Что ты несла, забыла? Евреи, мол, одолжили у египтян на три дня золотую и серебряную посуду, а потом с этими тарелками сбежали. И по пустыне сорок лет ходили, лишь бы награбленное не возвращать. Как тебе не стыдно? И при чем тут Белла? Ты, мать, эти дела брось. Чтоб ты знала: у Сережкиной невесты дядя в Израиле, и родители ее туда собираются. Может, и молодые вырвутся, если поженятся. Ты глаза-то открой. Посмотри, что вокруг делается.
Баба Вера насупилась и ничего не ответила. Ей и правда уже давно не нравилось все, что происходило в стране. Война не война, а продуктов опять не хватает. Теперь в магазинах и с мукой перебои, и масло – польское, ничем не пахнет, и куры, что ли, нестись перестали. А этот – в телевизоре, на танке стоял, руками махал, а вокруг толпа кричала: «Яйцы! Яйцы!» Это ей тогда так послышалось, а оказалось, что народ кричал: «Ельцин! Ельцин!» Вот и докричались… Лучше бы яиц потребовали. Теперь вот даже на пирог не хватает. Искромсали на кусочки большую страну. И что хорошего? Где живем – сами не знаем. Только все равно – незачем уезжать. Стыдно ведь! За колбасой, что ли? За ней можно и в столицу съездить, ближе будет. Ишь, чего удумал внучок! Уедут они, как же. Пока жива – не дам. Костьми лягу. Да, ничего не скажешь, хороша невесточка. Гнать ее надо, поганой метлой гнать….
Пирог не удался. Кислые мысли и камень на душе отняли у теста легкость, а у начинки сладость, а может, во всем был виноват продуктовый дефицит.
Баба Вера косилась на девушку и не понимала, что мог Сережка в ней найти. Худая, чернявая, только нос торчит. А характер, сразу видать – не сахар: брови густые сводит, губы поджимает. Ох, намается с такой девкой, держись. Но аппетит хороший – во как пирог уплетает. Небось ее бабка такой не делает. Сейчас спрошу…
– Майя, может, тебе добавочки? – как можно равнодушнее предложила Вера. – Наверное, твоя бабуля пирогов не печет?
Майя чуть не подавилась, поймав на себе змеиный взгляд старушки. Она отложила кусок пирога и, не отводя глаз, негромко, но жестко ответила:
– Не печет. Во время войны ее саму в печь отправили. Сначала в газовую камеру, а потом в печь. Вам должно быть знакомо слово «Холокост», если нет, то я вам расскажу историю моей семьи.
Ее смуглое тонкое лицо пошло красными пятнами, глаза заблестели, и баба Вера тяжело встала из-за стола и, шаркая, пошла на кухню. По дороге она успела проворчать, что нечего тут пугать Холокостами – сами все видели и лучше вашего знаем, что и как.
Антонина выбежала за ней следом и прикрыла за собой дверь на кухню. Оттуда была слышна невнятная словесная перепалка на повышенных тонах.
Сергей пытался удержать Майю, которая рвалась к двери и твердила, что ни минуты не останется в их доме. Он схватил ее в охапку, рискуя получить зонтиком по голове, и крепко встряхнул.
– Майка, ты с ума сошла? Из-за чего?! Она же ничего такого не сказала! Ну, брось! Бабка вредная, но добрая, вот увидишь…
– Ты заметил, как она меня глазами сверлила? Понимаешь, я кожей чувствую, что она меня уже ненавидит. Пойдем, пожалуйста. Я перед мамой твоей извинюсь, она хорошая, но не могу я, пойми, а то расплачусь…
Они стояли, обнявшись, у Майкиного дома. Разлипаться не хотелось. Вечернее небо густело и наливалось темнотой. На его фоне профиль девушки, казалось, был вырезан из белого картона. Майя окаменела, смотря куда-то вдаль или, наоборот, в глубь себя. Сергей любовался ею и все старался как-то растормошить. Ничего интереснее не придумав, просто осторожненько подул в ухо.
– Вся белая, а уши красные. Горят, значит, кто-то о тебе вспоминает.
Майя повернула лицо, и он увидел горящие угольки глаз. Вот куда надо было дуть. Слезы, которые в них проступили, казалось, сейчас закипят.
– Сереженька, ты ведь не передумаешь, правда? Я боюсь, что ты не сможешь просто наплевать на своих бабку и маму.
– Ну, во-первых, между ними единства взглядов не наблюдается. Мама – это одно, а бабуля – совсем другое. Как я сказал, так и будет. Через три месяца свадьба, а потом – радостные проводы молодой семьи на Землю обетованную. А потом – суп с котом. Приедут обе как миленькие, что им тут без меня делать? Кстати, у нашей бабули в Израиле подруга детства живет. Ее, кажется, Раей зовут. Мать рассказывала, что были они неразлейвода, но потом та уехала, а бабка наша из вредности ни на одно письмо не ответила. Ей даже посылки оттуда приходили, а она их отсылала назад.
– Вот видишь! А ты говоришь: «Приедет как миленькая». Да твоя бабулька, наверное, и на свадьбу-то не придет. А я так мечтала понравиться. У меня комплекс семейной недостаточности. Все говорят, что я очень похожа на свою бабушку Голду. У нас была большая семья – бабушкины сестры, их мужья, дети, – всех уничтожили, кроме мамы моей – самой маленькой в семье – и дяди Иосифа, который ушел на фронт. Бабушка Голда, когда фашисты за ними пришли, просто накрыла свою маленькую дочь с головой одеялом и приказала молчать. Девочка слышала крики, автоматные очереди, но молчала. Она была очень послушной, и это ее спасло, никто не заметил ее под одеялом. Мама совсем не помнит, как оказалась в детдоме, помнит только, что долго куда-то бежала. Ей в детдоме хотели дать другие имя и фамилию, а она не могла возразить, поскольку онемела от шока, но когда к ней вернулась речь, то гордо заявила: «Я – Манечка Левина». Это спасло ее во второй раз, иначе вернувшийся с фронта дядя Иосиф не смог бы ее найти. А хочешь, я тебе бабушку покажу? Ее фотография с Иосифом всю войну прошла, а теперь с ним в Израиль уехала, но он попросил знакомого художника написать портрет Голды. Все, кто его видит, спрашивают, чего это я так чудно одета. Меня Майей назвали в честь Победы, а хотели Голдой.
– Нет, Майя лучше.
– Что лучше? Вот видишь – и ты туда же, главное, чтобы скрыть, чтобы не выпячивать, вроде физического недостатка. А если бы меня, к примеру, Марфой хотели назвать, тебе бы понравилось?
– Какая разница! Теперь вы, девушка, без пяти минут как гражданка Рубцова. Не возражаете?
Cергей улыбался, замечая, как с лица невесты сползает трагическая маска. Но вдруг Майя словно проснулась:
– Сереженька, ой, я совсем забыла тебе сказать! Я с дядей Иосифом на днях разговаривала. Он позвонил из Хайфы, ну я ему и рассказала про нас. Он за меня очень рад. Только фамилию он менять не советует. Ты же теперь понимаешь, что она значит для мамы, для меня. Он предложил тебе тоже ее взять. Сергей Александрович Левин. Неплохо, как думаешь?
– Так, дорогая моя, а обрезание он не предлагал?
– Ну, не обижайся, пожалуйста. Если хочешь, мы тут останемся. Я, конечно, буду по маме скучать, но ты ведь со мной.
Майкины глаза опять грозились намокнуть. Она уткнулась лицом в Сережину грудь, и ее худенькие плечики дернулись. Сережа втянул запах Майиных волос – они пахли дождем. Он просунул руки под ее блузку, захотев прямо тут, сейчас, стиснув ее до хруста в костях, прислонить к дереву и заставить уступить его желанию. Майя подняла голову и легонько оттолкнула Сергея.
– Не сегодня, пожалуйста. Лучше пойдем к нам, я тебе бабушкин портрет покажу, сам увидишь, как мы похожи.
В ответ на это предложение Сергей не очень удачно пошутил, что он тоже копия бабушки в детстве.
– Ты не заметила? Мы же с ней – одно лицо.
Майя, как-то нелепо пятясь, отходила от него все дальше и дальше. Потом она закричала:
– Никогда не говори это, слышишь! Ты не похож на нее, ни капельки! А если такой, как она, – уходи!
Она побежала к подъезду, как вдруг, споткнувшись, упала плашмя на асфальт. Сергей одним прыжком оказался рядом и увидел, что ее колено превратилось в кровавое месиво. Майя угодила им прямо на железную крышку люка. Девушка, хоть и кусала губы от боли, но была счастлива. Сережа дул на рану, называл ее Маюшечкой, кошечкой и еще сотней уменьшительно-ласкательных имен. Он нес ее на руках к дому, а она шептала: