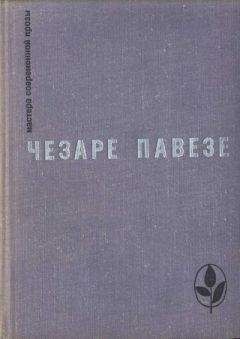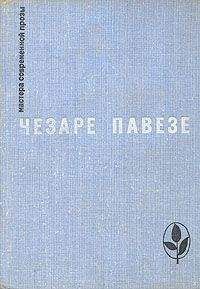— Мне хотелось побыть одному.
Я сделал такое лицо, какое сделал бы в подобном случав Пьеретто, и мне самому стало неприятно. Орест опустил глаза, как нашкодившая собака.
— Тут кто-нибудь замешан?
Орест, не отвечая, глядел на свою сигарету.
— Пойдем на балкон, — сказал он.
На балкон вела деревянная лестничка, кончавшаяся люком. Мы никогда не поднимались туда. Там в полдень загорала Габриэлла.
Мы на цыпочках прошли по коридору. Лестничка чертовски заскрипела под нашей тяжестью. Орест вылез первый.
Мы попали в маленькую лоджию, которую заливало утреннее солнце. Снаружи ее закрывал кирпичный парапет, а на столбиках, обегавших ее вокруг, были укреплены рейки, служившие подпорками для вьющихся растений. На парапете стояли вазы с ярко-красной геранью, а из-за него выглядывали темные верхушки сосен.
— Неплохо. Эта женщина умеет жить.
Орест в замешательстве смотрел по сторонам. У стены стояли скамеечки для ног и сложенный шезлонг, на крючке висели купальные халаты. Я подумал, что тому, кто лежит в шезлонге, должно быть, видно только небо и герань.
— Милый мой, — сказал я Оресту. — Нет надобности брать ее на болото. Она уже чернее нас.
— Ты хочешь сказать, что она загорает таким же манером?
— Тебя она не приглашала сюда? — сказал я, улыбаясь, и мне опять стало неприятно. Орест не сводил глаз с купальных халатов.
— Вот счастливцы муравьи и шершни, — сказал я. — Ну, пошли.
Кто был виноват в том, что произошло? Я со своими шуточками? Еще теперь, думая об этом, я во всем виню Греппо, луну, разговоры Поли. Я должен был бы сказать Оресту: «Поедем домой». Или поговорить об этом с Пьеретто. Он, пожалуй, мог бы его спасти. Но Пьеретто, который понимает все, в эти дни ничего не замечал.
Впрочем, и мне самому нравилась тайная игра. Приближался полдень, и Габриэлла, которая все утро разгуливала по дому в шортах, болтала, хлопала дверьми, гоняла туда и назад Пинотту, Габриэлла вдруг исчезала, оставляя нас на освещенной солнцем лужайке среди сосен или на покойной веранде, где мы по очереди читали вслух. Мы с Орестом обменивались быстрым взглядом — это был наш секрет, и время для нас как бы приостанавливалось, слишком медлительное, тягучее в этот солнечный час. Однажды утром, когда Поли пошел наверх и немного задержался там, я заметил, что Орест бледнеет. Я не испытывал ревности к Оресту; я всерьез не думал о Габриэлле, да и не задавался вопросом, думает ли он о ней. Мне доставляла удовольствие эта игра, вот и все; она была такая же безобидная, как тайна болота, и все же, я скрывал ее от Пьеретто. С его характером он был способен заговорить об этом за столом.
Когда я подумал, не сказать ли Оресту: «Но ведь тебя ждет Джачинта, разве не так?», я понял, что уже поздно. Это было в то утро, когда на мое обычное подмигивание Орест не ответил: его будто подменили. Габриэлла объяснилась с ним. На заре, после ночной грозы, они вместе вышли из дому, и я видел из окна, как они, смеясь, шли назад. Как раз в это утро Поли не вышел из своей комнаты. Внизу я нашел Пьеретто и Пинотту, которые о чем-то вполголоса разговаривали, и Пинотта угрюмо посмотрела на меня. Пьеретто сказал, что опять началась старая история.
— Этот кретин нанюхался.
Пинотта рассказала, что ее позвали очистить блевотину с одеял.
— И часто это бывает?
— Всякий раз, как они перепьются, — сказала она.
Накануне вечером мы не пили ничего, кроме апельсинового сока. От духоты и первых вспышек молний всем было как-то тягостно, не по себе, а у меня это настроение обратилось в ощущение неловкости, даже в настоящее чувство вины, и, переведя разговор на Греппо, где мы загостились, я сказал, что пора уезжать. Все — в том числе и Габриэлла — набросились на меня: мол, здесь нам очень хорошо и предстоит еще много всего.
— Ни у кого, кроме Пинотты, нет оснований жаловаться, — сказал Поли. — Но Пинотта не может жаловаться.
Тогда (молнии озаряли сосны) я сказал, что не понимаю, зачем они приехали в Греппо побыть наедине, если нуждаются в нашем обществе.
— Вот нахал, — сказала Габриэлла, но тут загремел гром, мы пошли домой, и больше об этом разговора не было.
Теперь Пьеретто поднялся со мной в мою комнату, и мы заговорили о рецидиве наркомании у Поли.
— Я этого ожидал, — говорил Пьеретто. — Этот кретин не на шутку пристрастился к кокаину. Что толку, что отец держит его в деревне. Через час Поли поднимется, — продолжал он. — Опасности нет. С избранниками бога это бывает.
— В данном случае тут замешан Орест, — заметил я.
Пьеретто скривил рот. Он думал о Поли.
— Это испорченный ребенок, — сказал он. — Виноват в этом наш мир, где некоторые загребают деньги лопатой. Получается так, что их дети, вместо того чтобы отплывать от берега, как все, оказываются в глубокой воде, когда еще не умеют плавать. Вот они и захлебываются. Ты знаешь, какую жизнь он вел в детстве по милости родителей?
Он рассказал мне скверную историю о служанках и гувернантках, которыми Поли был окружен в Греппо до тринадцати-четырнадцати лет. Они научили его разным глупостям, главной из которых было, что богатыми рождаются и что его маму другие женщины должны почитать, хотя перед богом, разумеется, все — его дети. Одна, служанка взяла его к себе в постель, когда ему еще не было двенадцати лет, и в течение нескольких месяцев высасывала из него все соки. Мало того, она водила его в лес, и там они тоже баловались, так что он сделался развратником еще раньше, чем стал мужчиной.
— Для него жизнь и состоит из таких вещей, — говорил Пьеретто. — Он таскал у матери снотворное, чтобы одурманить себя. Жевал табак. Бил по щекам служанок, чтобы иметь предлог обнимать их и прижиматься к ним…
— Он свинья, вот и все, — сказал я нетерпеливо. — Причем тут деньги? Не все, кто ровня ему, похожи на него.
— То-то и есть, что похожи, — сказал Пьеретто. — Но что бы там ни говорила его жена, он наивнее других. И знаешь, он всерьез верит в то, что говорит. Увидишь, если он не умрет, то сделается буддистом.
Вот тут я и увидел в окно приближавшихся к дому Габриэллу и Ореста. Они оскальзывались на траве, поднимаясь по крутому скату, и смеялись.
Я сказал Пьеретто:
— А Габриэлла? Она не нюхает кокаин?
— Габриэлла подшучивает над всеми нами, — сказал он. — Ее это забавляет.
— Но почему же они живут вместе?
— Привыкли ругаться.
— А не может быть, что они любят друг друга?
Пьеретто засмеялся на свой лад и присвистнул.
— Этим людям некогда любить, — сказал он. — Они смотрят на вещи проще. Все их проблемы связаны с деньгами.
Потом мы спустились на веранду и там нашли Ореста и Габриэллу. Она уже побывала у Поли (у них были отдельные комнаты) и, вернувшись, сказала:
— Больной поправился.
Никто ни словом не обмолвился о наркотике. И у Габриэллы, и у Ореста смеялись глаза, и скоро мы забыли о Поли. Мы продолжали обсуждать план поехать завтра потанцевать на празднике в одно селение, славившееся ярмаркой, которую устраивали в конце августа. Когда в полдень Габриэлла исчезла, я бросил быстрый взгляд на Ореста, но на этот раз он не ответил мне тем же. Он сидел безучастно, поглощенный своими мыслями, но у него все еще блестели глаза. Тут я всерьез задумался о Джачинте.
XXII
Чтобы повезти нас на гуляние, Орест съездил домой за двуколкой, но на ней помещалось не больше трех человек. У Поли болела голова, и ему было не до танцев, а я сказал, что тоже останусь, потому что уже привязался к Греппо, да и неплохо было денек побыть одному.
— Негодники вы, — сказала Габриэлла, сидя на двуколке между Орестом и Пьеретто, — но все-таки жаль, что вы остаетесь.
Они уехали, помахивая нам и смеясь. Я провел утро у грота, заросшего адиантумом. С этого места был виден только гребень холма, врезавшийся в небо, — равнину скрывали заросли тростника. Быть может, в былые времена там был виноградник, от которого осталось одно воспоминание. У входа в грот я разделся догола и стал загорать. Я не делал этого с тех дней, когда мы ходили на болото, и поразился, что я такой черный, почти такой же черный, как черешки адиантума. Я думал обо всякой всячине, блуждая взглядом там и сям. Из-за зарослей, замыкавших лужайку и заслонявших ее от сторонних глаз, мог кто-нибудь показаться, но кто? Не кухарки, не Поли. Может быть, духи круч и лесов или какой-нибудь здешний зверек — такие же голые и нелюдимые существа, как и я. В бледном серпе луны, стоявшей над тростником в ясном небе среди белого дня, было что-то колдовское, символичное. Почему чувствуется какая-то связь между голыми телами, луной и землей? Даже отец Ореста шутил насчет этого.
В полдень я вернулся на виллу среди сосен, старую и белую, как луна. Я послонялся за домом, возле оранжереи, увидел в окошке рыжую голову Пинотты, гладившей белье. Пока я смотрел через открытую дверь на горшки с роскошными цветами, от которых пестрело в глазах, вышел старый Рокко и что-то пробормотал. Мы завязали разговор; он нашел, что я хорошо выгляжу.