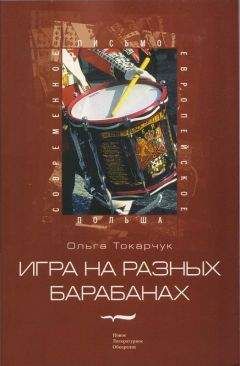Наконец оживали лифты, в середине дня дом просыпался. Хлопали двери, начинала работать перистальтика мусоропровода. Какие-то дети галдели на лестнице, возвращаясь из школы. В чьей-то машине перед домом срабатывала сигнализация. Приглушенно звонил телефон. Скрежетали ключи в замках. В очередной раз просыпались близнецы, теперь уже для того, чтобы съесть натертое яблоко с печеньем, сладкую морковку, персиковое пюре или омлет. Нужно было зажигать свет, постепенно, лампу за лампой, сначала на кухне, потом в комнатах. Стиральная машина требовала очередной порции детского белья. Та замолкала, потревоженная предвечерним оживлением. День входил в привычную колею и дальше уже шел спокойно, размеренно, минута за минутой, час за часом, в такт огромному метроному вечера.
Впрочем, в это время возвращался мужчина — он вешал длинное темно-синее пальто в коридоре, шел мыть руки и сажал мальчиков к себе на колени. Ее целовал в губы. Незаметно включался телевизор; они ужинали за маленьким столом на кухне. Он говорил, что, если дела пойдут хорошо, в новой квартире у них будет настоящая столовая.
Раз в неделю они ходили в кино. Этого тоже требовал метроном. Тогда они приглашали девушку посидеть с детьми. Близнецы не протестовали. Не плакали, когда родители уходили, и уже спали, когда те возвращались. После кино они еще шли куда-нибудь поужинать, но с этим вечно возникали проблемы, потому что все уже было закрыто, и вечер чаще всего заканчивался кебабом на пластиковой тарелке в одной из турецких закусочных.
Это нельзя было назвать слежкой. Громко сказано — просто она изучила распорядок дня певицы. По утрам та была дома. Утро молчало. Петь она начинала примерно в полдень, потом наступала тишина. Около трех она опять оживала, иногда на час или два. И — снова тишина. Именно тогда она уходила, а та, что слушала на полу, уже ждала у окна, чтобы посмотреть на нее сверху, со своего десятого этажа. Певица шла энергичным шагом, носки немного вывернуты наружу, как у профессиональной танцовщицы. Ее пышные, черные, вьющиеся, причудливо заколотые волосы падали на плечи. Пальто она носила длинные, свободно развевающиеся, а под ними всегда что-то короткое и облегающее. Яркие, холодные цвета — малиновый, индиго, фиолетовый. Садилась в небольшую черную машину и исчезала за многоэтажками. Эта, с близнецами, никогда не видела, как та возвращается. Наверное, поздно.
Вскоре ей удалось изменить распорядок дня так, чтобы оказаться в скверике перед домом, когда певица будет выходить. Мальчики играли в песочнице, а она сидела на скамейке, переводя взгляд с их голов на дверь в подъезд. Наконец та выходила, что-то тихонько напевая, доставала из сумочки ключи, пару секунд вертела их в пальцах, отключала сигнализацию. Автомобиль отвечал ей нежным писком и подмигиванием. Она бросала на заднее сиденье сумку и уезжала. Исчезала.
Другая забирала детей и возвращалась домой.
Позже она научилась угадывать, когда певица выйдет из дома. Получалось это не всегда — та, видно, была не очень пунктуальной. Но когда удавалось, они встречались на улице. Сначала с безразличием — столько незнакомых людей мелькает перед глазами в течение дня, столько лиц, пальто, туфель, портфелей и сумочек. Спустя некоторое время они уже обменивались взглядами. Полуулыбки. В конце концов та как-то сказала: «Добрый день», а эта покраснела и робко ответила. После той, летящей, оставался шлейф легкого цветочного запаха.
Так продолжалось два сезона, почти не отличавшихся друг от друга в районе стандартных домов, где преобладал цвет грязно-белой побелки.
Летом она стала бояться, что та вдруг уедет и уже нельзя будет, прижавшись ухом к полу, слушать музыку. Это должно было когда-то закончиться. Не живут в таком месте всю жизнь, особенно певицы. Та уже исчезала на месяц, и покинутая многоэтажка, несмотря на все голоса и звуки, шум лифта, кряхтенье мусоропровода, хлопанье дверей, арпеджио детских шагов на лестнице, стала пугающе пустой и немой, непригодной для жизни. Именно тогда она с удвоенной силой требовала от мужа: домик среди деревьев, большая столовая, выход на террасу и оттуда прямо в сад. Он обещал, но непонятным образом это означало «никогда». Потом он прижимался к ее груди, еще не так давно полной молока, и тогда она чувствовала себя сильной. Чувствовала, что она незыблема — как мост над бурлящей водой или даже как огромный трансатлантический лайнер, и это было, без сомнения, приятное чувство. Однако, засыпая, удивлялась, что не может прижаться сама к себе или укачать себя, и в тот момент ей казалось, что она заключена в собственном теле как в клетке, состоящей из ее же ребер.
По субботам, когда муж оставался с детьми, она ходила по магазинам. Прихватив сумку на колесиках, катила ее по неровным плитам тротуара, и сумка отбивала мелодичный ритм, а она подпевала в такт, подыскивала второй голос. На асфальтированной мостовой ритм менялся — растворялся, исчезая, но снова возникал, когда сумка ехала по брусчатке вдоль магазинов. Ей представлялось, что сумка на колесиках — игла граммофона, извлекающая из безмолвной поверхности скрытую музыку. Еще были бетонные плиты у подъездов, имитирующие плавные движения смычков, нервные барабанчики булыжной мостовой на старой улице рядом с овощной лавкой, мягкие звуки рожков в торговых пассажах, нежный бархат фаготов на утрамбованных дорожках. Земля в разных формах, в виде песка, гравия, камня, асфальта или бетона, пела под колесиками хозяйственной сумки. Аккомпанемент на тысячи ладов требовал ее голоса, нет, скорее, голоса той, потому что сама она могла только что-то промурлыкать или хрипло прошептать. И разве не так же, думала она, как нельзя прижаться к своей груди, нельзя услышать извне собственный голос? И в общем-то, никому не дано хоть раз увидеть себя глазами мира, услышать себя ушами мира, прикоснуться к себе его руками.
— Посмотри, — сказала она позже мужу, — я купила баклажаны, купила капусту, купила яблоки и сливы.
Она повторила это несколько раз. Как музыкальную фразу. Как припев. Близнецы завороженно рассматривали оскалившиеся, огромные желтые зубы кукурузы.
Как-то во второй половине дня, после долгих колебаний, она решилась постучать в квартиру этажом ниже. Та открыла дверь и, похоже, вовсе не удивилась. Молчала. Эта, сверху, медленно выговаривая каждое слово выученной заранее фразы, сказала:
— Меня зовут В. Я слушаю, как вы поете. Я живу над вами.
Та пригласила ее войти.
Квартира, несмотря на такое же, как у них, расположение комнат, казалась абсолютно другой. Здесь не было стены между кухней и комнатой, поэтому пространство звучало совсем по-иному. Лампы под бумажными абажурами давали мягкий, молочный свет. На стене, как картина, висел большой белый холст. Пол деревянный, очень блестящий. Серебристые, поросшие пушком листья цветов. Та поправила вьющиеся, густые, собранные в пучок волосы, внимательно посмотрела на В. и, вероятно определив возраст, перешла на «ты»:
— Так ты моя соседка сверху. С близнецами. Они похожи как две капли воды.
— Нет, — возразила В.
— Это только матерям заметно.
Наступило неловкое молчание. В. скользнула взглядом по мебели — легкой, простой. Она ожидала увидеть бархатную драпировку и тяжелые диваны, ковер с длинным ворсом, возможно, даже звериную шкуру на стене.
— Стакан соли, сахара? А может, два яйца? — рассмеялась хозяйка. Смех — низкий, глубокий — шел откуда-то изнутри. Этим смехом невозможно было не заразиться.
В. захихикала.
— Нет, мне ничего не нужно. Я только пришла сказать, что слушаю тебя.
— Такая здесь слышимость? — испуганно спросила та.
— Это очень красиво, твой голос и то, что ты поешь.
И поблагодарила за бесплатные концерты. Та извинилась: наверное, она мешает спать малышам. В. отрицательно покачала головой.
— Это так красиво, — повторила она и отступила к двери.
Та предложила ей выпить чаю. В. знала, что дети будут спать еще не больше получаса, но согласилась. Села на высокий табурет рядом со стойкой бара. Та поставила воду и насыпала из черного блестящего пакета в чайничек длинные скрученные листочки. Спросила про детей, как их зовут, и нравится ли ей этот район. В. следила за каждым ее движением. Сосредоточенное позвякивание чашками. Шелест целлофана и нежный, аппетитный шорох высыпаемого на тарелочку печенья. Руки певицы — большие и сильные, ногти ровные, розовые, с молочно-белым ободком. Французский маникюр. Стук ногтя по фарфору. Шум кипятка.
Она была крупнее, лучше сложена, чем казалось В. раньше. У нее было широкое красивое декольте в редких веснушках, большую грудь скрывала мягкая серая блузка. На ногах белые шерстяные носки. В. отметила: размер одежды 48, обуви — 40. Спросила про мелодию, которую чаще всего слышала последнее время и которая постоянно звучала у нее в голове. Хотела ее воспроизвести и уже набрала в грудь воздуха, но собственная рука ее остановила. Прижалась ко рту.