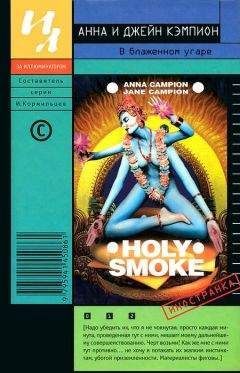Тут папа вылезает, он без рубашки. Он медлит… мы оба чувствуем себя неловко. Билл-Билл нервно хихикает… ха-ха-ха: вроде как, будет вам, вы никогда раньше так не ссорились. Для разрядки вспоминаем прикольные шуточки Синатры, типа: «Каждая поющая блядь хочет выбрать мой путь».[64]
— На, Рути, попей, только маленькими глоточками. — Поддерживая донышко, папа подносит бутылку к моему рту.
— Маленькими. — Оба тщательно следят, чтобы я не захлебнулась.
Взрослой Рут больше не существует. Я для них сейчас просто маленькая девчушка, которая разгуливает в жутких лохмотьях по шоссе, жалкая, и беспомощная, и вся в слезах. Ну да, все верно, я действительно беспомощный младенец, я так их ждала, мне так нужно их сочувствие, их защита… Папа робко подходит ближе.
— Хватит, мы не можем торчать тут целый день. — Хочет забрать у меня бутылку, но я тяну ее назад.
— Пап, он ударил меня, сбил с ног.
— Да что ты? Даже так? Это он зря, перестарался. А кстати, где он?
— Пап, ты не слушаешь меня.
— Почему же, мы слушаем тебя очень внимательно, правда, Билл-Билл?
— Конечно, — отвечает Билл-Билл, — конечно, а для чего же мы тут, уладим все в лучшем виде, не бойсь.
Чпок! Бутылка падает и, грохнувшись о гравий, отлетает на середину дороги. Я, шатаясь и прихрамывая, устремляюсь к ней.
— Слева, Билл, заходи слева!
Они обступают меня с обеих сторон.
— Брать будем под коленки, так, чтобы ноги на весу.
Я сажусь прямо на дорогу, опускаю голову и вся сжимаюсь.
— Пап, я не хочу идти в полицию.
— Вот и умница, ты всегда верила, что в людях больше хорошего. Билл думает, что в последнее время ты много чего поняла, правда, Билл?
— Правда. Мы действительно так думаем.
— Пап, он сбил меня с ног.
— Я слышал, слышал… но ты же говоришь, что в полицию идти не хочешь…
О-охх, я больше не могу, в полном ауте, мне все равно, что я, где я, жива ли я… пле-вать.
— Ладно, поезжайте, прямо на меня.
— Что?
— Садитесь в машину и вперед — давите меня.
Я прячу голову в колени и слышу, как они вполголоса что-то обсуждают, потом слышу щелчок зажигалки, шелест шин, скрежет тормозов. Потом хлопает дверца, топот, хруст гравия.
— У детки поехала крыша, — испуганно кричит папа, — срочно в больницу, к психиатру!
Огромная ладонь нежно обхватывает мой затылок, потом его пальцы стискивают виски. Самая ласковая, самая родная рука, как крепко, как плотно она меня держит, и теперь совсем близко его голова, самая глупая на свете… Бедный папа растерян, не знает, что делать. Щуримся от солнца, молчим, говорят только глаза. Его, немного мрачные, мои, торопливо пытающиеся внушить: «Ты же знаешь, что я не сумасшедшая, папочка. Я просто испугалась».
— У меня, между прочим, брат шизофреник.
Не знаю, что сказать, помолчав, небрежно интересуюсь:
— А он привязывает книжки к ногам?
Папа хохочет и спрашивает: как мне в таких сандаликах, удобно?
— Да не очень. Быстро рвутся.
Он снова хохочет:
— Ну как ты, ничего?
— Да не очень. Если честно, мне жутко плохо.
Покрепче ухватившись, они пытаются меня поднять. И тут диафрагма моя конвульсивно вжимается внутрь, позыв рвоты понуждает согнуться почти до земли, только рвать мне нечем, я натужно кашляю и давлюсь. Вдруг пальцы мои нащупывают какой-то острый камешек и цепко в него впиваются. Поднимаю глаза. Что это? На меня движется белый фургончик. Он медленно-медленно подкрадывается к руке, сжимающей камень, я чувствую, как в истоме ожидания напрягаются мускулы.
Папа и Билл-Билл проходят вперед.
Фургончик, вильнув в сторону, тормозит.
Папа и Билл-Билл подбегают к кабине, у Билл-Билла появляются в руках какие-то одеяла, он носится туда-сюда вдоль машины.
А из нее вдруг вылезают Тим и Робби, оба закуривают.
Ивонна. Наклоняется, перегнувшись через спинку заднего сиденья, над багажником.
Робби орет на папу.
Билл-Билл тычет пальцем в мою сторону.
Камень впивается в ладонь, это когда Тимми крепко меня обнимает, потом подводит к багажнику и показывает Пи Джея. Он истекает кровью, сплошные ушибы, он ужасен. Я не могу на это смотреть. Папа почему-то дает Робби пинка, слезы холодят мои щеки. Робби и папа начинают драться. Я кричу на них, я не хочу, чтобы Пи Джей умер.
Когда мы приехали в мотель, я сообразила, что все еще сжимаю в кулаке тот острый камушек, — ну просто жаждущая возмездия Кэрол. Мама (вот бред!) зачем-то решила помыть его теплой водой. Я потребовала, чтобы мне его сию минуту вернули, что было еще большим бредом. Мама стала звонить врачу.
Я рассказала докторше про камень, и она тут же сунула мне таблетку валиума.[65] Она не старая и не вредная. Толстенькая, невысокая, белобрысая, с пухлыми руками, усыпанными веснушками. Она сидит у меня на постели. В комнате больше никого. Спрашивает, не принуждали ли меня к сожительству. Я мотаю головой.
— А с вашего согласия?
Киваю.
— Пользовались контрацептивами?
Мотаю головой.
— Хотите таблетку «утро-после»?
Киваю.
Говорит, что назначит мне мазь от солнечных ожогов, мазаться нужно будет неделю. И что мне нельзя пользоваться духами, пудрой, пахучими шампунями и мылом с отдушкой, а также крепкими лосьонами.
Возникает пауза: это она пишет мне рецепт.
Я выразительно покашливаю и указываю на дверь:
— Кхм-кхм. Они нас слушают?
Она поднимает голову:
— Кто?
Чувствую себя полной идиоткой и тупо рассматриваю свои ладони… слышу, как она рядом дышит. Так проходит кошмарная минута, потом докторша встает, идет к двери и высовывает голову наружу.
— Никого. — Она снова усаживается на край кровати. — Так что вы хотели мне сказать?
— Я хотела… мм… тот американец, он…
— Тот, с которым вы имели половой контакт?
— Да, тот. — О г-господи… как она это сказала, выдала прямым текстом. Я жутко краснею, сама не знаю почему. Они все знают. Наверное, поэтому. Конечно же, они все знают. Мне в общем-то плевать, и в то же время… выходит, не совсем. Я сосредоточенно утюжу простыню своим камушком.
— Скажите, где он.
— Гмм. — Она внимательно на меня смотрит.
— Я просто хочу знать, где он. В больнице?
Она сверлит меня долгим тяжелым взглядом, я в ответ улыбаюсь долгой вымученной улыбкой, мы обе смотрим на камень, которым я часто-часто постукиваю по матрасу… а ведь неплохой повод похихикать, свести все к шутке. Протягиваю камень докторше.
— Спасибо.
Ей мой камушек на фиг не нужен, но подарок все-таки, еще и домой его потащит, я мысленно снова хихикаю.
— Ловкий ход, — говорит она. Я гордо киваю и секунду-другую еще держусь, но потом меня прорывает: я бессовестно хохочу, до истерики…
Очнулся я под кислородной маской и увидел, что лежу в незнакомой темной комнате, но в нее попадает свет из окон более низкого соседнего здания. Пульса почти нет, зато в правой ноге что-то здорово бьется и дергает. Взгляд натыкается на длинную трубку. Она тянется к комку ваты, облепленному пластырем, через секунду-другую соображаю, что этот комок — моя рука. Ну и уродина. Мне, пожалуй, не хочется знать, что с ней такое. Малейшее движение — интересная штука! — тут же отдается пульсирующей болью в руках и ногах. Но самое поразительное другое: оказывается, я жив, и рядом — никого.
Последнее, что я помню: Рут танцует, вскоре их уже двадцать, одетых в сари, кружатся в танце; часть их исторглась из огромной ее статуи, часть — это преобразившиеся, отколовшиеся от нее, от каменной, кусочки. Малютки в сари двоятся, троятся. Они падают на землю и разбиваются, превращаясь в переливчатые дрожащие капли ртути.[66] Капли тоже продолжают танцевать. Сбиваются в стайку, перетекая влево, потом перемещаются вправо. Какие у нее… у них… легкие движения, неземная красота, а это ритмичное притопыванье — пяточкой, потом всей ступней… непередаваемо… Как в Бали-Хаи.[67] Крошка моя ненаглядная, приди, приди же ко мне…
Поднос с питьем на всякий случай отодвинули подальше, на самый край тумбочки. Та-а-ак, значит, я в больнице и теперь гораздо более беспомощен, чем в том проклятом домике: ни телефона, ни единой души у постели страждущего, даже Кэрол нет. Вот-вот, даже ее… наверняка они ей такого наговорили… А она не их тех, кто умеет мыслить широко. Нет, не из тех. Если Ивонна выложила ей все примечательные и «достоверные» подробности, у Кэрол я точно не найду понимания. Ну и плевать, расслабься, ты на карантине, вот и отдыхай. Да уж, по крайней мере, не придется все это выслушивать. Заново все пережевывать. И дожевывать.
…«А потом он сказал, что специально надел ее вещи и намазался ее косметикой, ему хотелось любить ее не как мужчина любит женщину, а как женщина женщину».