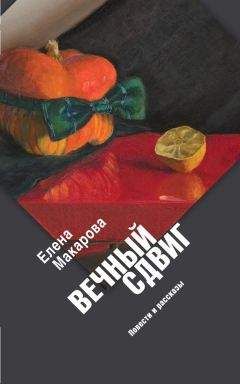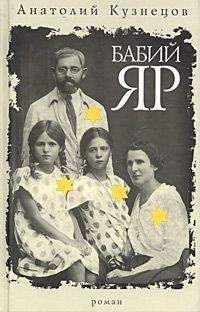– В бабской жизни ты еще нуль смыслишь, без палочки. – И хихикает.
– Зацепила я, – объявляет в ноябре.
На ней рейтузы, не чулки капроновые.
– Дак не чулки! – краснеет Алевтина. Румянец окрашивает все лицо, оставив острый нос бледнеть над закатной равниной. – Залетела я, понимаешь?
Намечался ребенок. Дитя заначки. Алевтина медленно и почти незаметно округлялась. Перед декретом пузо выявилось огромной дыней, острое, оно торчком вздымало платье весенне-летнего сезона с отрезной талией. Молния на боку не застегивалась. Из овального выреза белело тело, словно облако в голубом ситце. Ходила она теперь медленно, внутрь носками. И все у нее ломило и болело.
Прихватив поясницу ладонями, она раскачивалась у стойки, я ставила печати на оформленные книги. Даже это ее уже не привлекало. Она, Алевтина, старый первородок. А старым первородкам тяжело носить.
Кто-то сказал ей, что в интересном положении глядеть в зеркало – дурная примета. А поскольку амбарные книги хранились под зеркалом (прежде Алевтина с удовольствием заносила сведения в графы: «Автор», «Название», «Цена», «Год выпуска»), то и это дело было брошено. В интересном положении и пыль вредна.
Поборники справедливости зудели: «Ты же за двоих пашешь, а ей на заведование надбавка, да плюс она занимается частно».
Чем же могла Алевтина заниматься в библиотеке частно? Оказывается, она являлась к восьми и учила отстающих перваков красиво писать и читать с выражением. Клиентов ей поставляли училки.
– «Му-у-ха, му-у-у-ха, Ца!-ка!-ту!-ха!» – так же ж надо, дети! – Надо подкоплять, – сказала она, – с Такого лишней пеленки не допросишься. Мымру не видела?
Мымрой Алевтина звала директрису. Ее кабинет был наискосок по коридору, метрах в тридцати от нас. Маленькая, на высоких гвоздиках, она буравила мелким шажком звонкий цемент. Ее мы узнавали издалека. Она приходила к нам культурно расслабляться. Дыша пыльным воздухом литературы, она всякий раз сообщала, что писатель Юрий Рытхэу – друг их семьи. Забывчивость директрисы – от перегрузки, кто этого не понимает, тот не понимает ничего в жизни школы. Директора в ней шизеют. Каждый день – ЧП!
Когда происшествие оказывалось действительно чрезвычайным, она приглашала меня в свой кабинет. Она доверяла мне. Я не водила дружбу с ее заклятыми врагами – учителями и школьниками, и потому могла оценить со стороны, объективно.
– Мне нужно объективное мнение, так что слушай внимательно. – Она доводила контральто до глухоты, до сипа; набирала воздуху, и, не глядя на портрет, но указывая большим пальцем через плечо и тем давая понять, что то, что она сейчас скажет, будет иметь прямое отношение к портрету, говорила: – Мерзавец из шестого «В» изгадил дневник отличницы словами на «х» и на «б».
– Может, он влюблен в отличницу?
– Не надо адвокатствовать, не для этого я тебя пригласила. Это же про него! – взводила она курок из пальцев в портрет. – Ты понимаешь серьезность положения?! Я сдала дневники всех шестых классов на экспертизу. Криминальное дело. За такие, с позволения сказать, высказывания я отвечаю партбилетом, директорством, и в конце концов – я преподаю историю с 1946 года!
– Ну чё она там, егоза-то наша? – Алевтина волновалась: а вдруг «засекли»?
Отчет Алевтина прослушала безучастно – лишь бы ее не касалось.
– Глянь, какая обезьянка! Ну как живая! Возьму своему, – Алевтина обеими руками оглаживает пузо, – пусть подивится, яка гарна обезьянка.
Теперь она была увлечена детскими книжками. Наберет стопку и листает. Стеллаж с книгами на замену примыкал к окну, и Алевтина не могла туда пробраться. Списанного «Винни-Пуха» без половины страниц она сдала в переплет. Припасенную библиотечку для будущего Такого (Алевтина втайне надеялась, что сможет записать его Гражданкиным) она «заховала» под старые журналы.
К большой перемене Алевтина подшивала свежие газеты. Специально для директрисы. Та забегала к нам из буфета. Полистать. Листая, она успевала доесть песочное кольцо, сгрести осколки орехов с газеты и всыпать себе в рот. Такая у нее работа: все – всухомятку, все – на бегу. Пульс эпохи, напротив, в те времена бился ровно, без сбоев. Наши очередные победы имели под собой прочный фундамент, как и очередные их поражения. Глядя в газеты, директриса кивала, как бы подтверждая мелкими поклонами правильность оценок. Всякая информация была вторична по отношению к оценке, что существенно облегчало труд историка.
Дочку директрисы, десятиклассницу, Алевтина прозвала Фыркалой. Стоило той появиться в библиотеке, Алевтина сбегала в уборную. Такая у нее была реакция на Фыркалу. Возвращаясь, она стонала. И успокаивалась любимой игрушкой, дыроколом.
– То ж конфетти, – ссыпала она кружочки в бумажный мешок. – На Новый год, с пьяных-то глаз, как сыпану сверху с мешка – так всех засыплю, что снегом будут запорошены. А Куркину пустой мешок на голову надену, пусть-ка в другой раз попробует уборную заделать. А если цветную нащелкать, выйдет как с магазина, – мечтала Алевтина, задумчиво глядя в окно на тугие почки липы. – Скоро полопаются, и я туда же. Расколюсь.
В конце апреля Алевтина ушла в декрет. На ее место нашлась настоящая библиотекарша из Института культуры. С надставленной косой на затылке, тихим голосом и ледяным взглядом. Я ей не понравилась. Вскоре директриса вызвала меня «на ковер».
Ей стыдно и больно говорить мне, интеллигентному человеку, о порядочности, но она вынуждена. Оказывается, за ее спиной я крала книги, совращала десятиклассников тем, что не пользовалась стремянкой, а лазала прямо по полкам. Десятиклассники специально заказывали книги с верхней полки. Чтобы смотреть на ноги. Но главное: я убрала нулевой отдел, самый важный для воспитания молодежи, на зады и выдавала детям одни сказки и приключения. Школьная библиотека – это оборонно-стратегический пункт!
Оборонно-стратегический пункт я покинула без сожаления.
Летом я встретила директрису в парке Толстого, что против школы. Она гуляла с дочерью, золотой медалисткой. Маленькая, но плотная против директрисы, с двумя косами на прямой пробор и в белых носочках под цвет платья, Фыркала окатила меня презрением. Она знала, за что меня уволили.
По воскресеньям парк Толстого кипит. Работают аттракционы, а те, что на ремонте, оккупированы мальчишками. Мальчишки лазают по ржавой оси колеса обозрения, раскачивают лодочки, пытаются сдвинуть с места железные корпуса.
Танцы под духовой оркестр были в полном разгаре. Шерочки с машерочками проносились в вальсе. Приподнятые на носках, с каменеющими мышцами икр и натянутыми сухожилиями, пенсионерки парили над землей. Им было жарко в пиджаках, и оттого они поводили плечами, давая телу вздохнуть. В центре площадки куражился пьяный мужик. Танцующим до него дела не было, разве иногда он мешал слаженному полету по кругу, его сбивали с ног, но он вставал и мужественно продолжал свое дело.
В парке вовсе не обязательно было танцевать. К услугам посетителей и кинотеатр «Космос», и Дворец культуры «Родина», где можно было прослушать лекции по международным и семейным проблемам. Однако открытая эстрада влекла. Несмелые и любопытные оцепили танцующих, а внуки, взобравшись по ступенькам на эстраду, сверху глазели на бабушек. Бабушки храбрились, дедушки уходили в зрители.
После вальса грянуло танго. Танцующие остепенились, снизили темп. Лиризм танго подействовал на присутствующих; некоторые всплакнули. В вихре вальса пьяный мужик потерялся, зато теперь он вносил очевидный разлад в танцы. Его фигура вдруг показалась мне знакомой.
Это же Такой! Значит, где-то должна быть и Алевтина. Я обошла стоящий народ по кругу. И нашла Алевтину на скамейке. На ее огромном пузе можно было бы разложить шахматную доску – и ни одна фигура бы не слетела.
– Раскалываюсь, – сообщила Алевтина.
Я помогла ей подняться со скамейки. Ее ноги, забинтованные от щиколоток до колен, окончательно окривели, лицо покрылось желтыми пятнами.
– Видала, что мой откалывает? Уж целый час чечетку бьет. Забрали б его на пятнадцать суток!
– Хочешь, я его уведу?
– То еще лучше! За вытрезвитель четвертной слупят. Проспится, дак…
Увести Борьку оказалось непросто. Под «Брызги шампанского» он нахально лез целоваться и обниматься.
Я поискала среди танцующих знакомое лицо и тотчас обнаружила. Соседку по подъезду – Аньку. Однорукий кавалер держал ее за крутой бок.
Я поманила Аньку, указывая на Такого. Анька мне удивилась – не думала она увидеть меня здесь, да еще с таким…
– Я б от него не рожала! – заявила она, выслушав скомканную историю.
Шампанское кипело и искрилось, выбиваясь пеной из медных труб. Анька была бездетна и болезненно толста. Она обильно потела. От подмышек до боков розовой кофты плыли темные пятна. От тоски завела она собаку и кошку и говорила бабам во дворе, что давно бы ушла с крана («двадцать пять лет на крану вишу!») – да нечем будет зверье кормить.