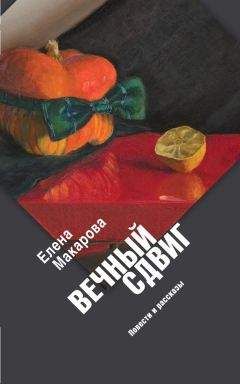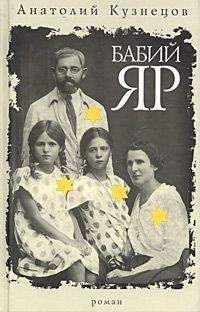Шампанское кипело и искрилось, выбиваясь пеной из медных труб. Анька была бездетна и болезненно толста. Она обильно потела. От подмышек до боков розовой кофты плыли темные пятна. От тоски завела она собаку и кошку и говорила бабам во дворе, что давно бы ушла с крана («двадцать пять лет на крану вишу!») – да нечем будет зверье кормить.
Кавалер же, науськанный Анькой, сжал единственную руку в могучий кулак и ткнул этим кулаком Борьке в нос. Тот сразу прекратил бесчинство и уплелся с эстрады.
В этот миг Анька окончательно отдала кавалеру свое сердце. Он подселился к ней. Прибил сперва кошку с собакой, чтобы ни псиной, ни кошатиной не разило, и принялся было за Аньку. Но бабы со двора научили подсыпать димедролу в конце бутылки, и теперь он и хочет Аньку шандарахнуть, да рука тяжелеет, силой не наливается. Так они и живут, на димедроле, но все равно, говорит Анька, стало хуже, чем с кошкой-собакой. Те не лезли, тех знай корми, а этого и накормишь, и за бутылкой три часа отстоишь – и все равно плохая.
Пройдя очередной круг в медленном бостоне и поравнявшись с Борькой, Анькин кавалер еще раз врезал Борьке в спину, и тот, пролетев промеж зрителями, свалился под дуб у скамейки. Ровно в ноги Алевтине. Под дубом он оклемался, отер кровь с носа, встал на ноги и чуть не упал прямо на директрису. Теперь она была одна, без дочери.
История, какой бы увлекательной она ни казалась, оставляет в женском сердце незаполненные уголки. Там спрятаны странные чувства. Звуки медных труб манили директрису – не чтобы танцевать, нет! Просто побыть около, вспомнить былые времена, когда марши вперемешку с вальсами гремели из всех динамиков.
Будучи мала ростом, но востра умом и каблуками, директриса напористо двинулась вперед, сквозь стену спин. Я следовала за ней. Мы встали в первый ряд, бок о бок, но директриса меня не заметила. Пупырчатое ее лицо в розовых и коричневых родинках раскачивалось на тонкой шее, как одинокий ялик в пучине дунайских волн.
– Что не танцуете? – спросила я ее.
– Я здесь по долгу службы, – директриса изменилась в лице. – Видишь мать того мерзавца из шестого «В», в свитере электрик? Не является на вызов. А дело идет об исключении.
Но стоило мне отойти в сторону – и директриса вновь поплыла по волнам ушедшей юности, амурской и дунайской одновременно. Медные трубы бередили забытые желания. И несмотря на то что отсюда танцы были полностью обозримы, она привстала на носках, подтянулась вперед, как пес на привязи. Казалось бы, что ей мешает выпорхнуть на площадку, сделать круг-другой с первой попавшейся партнершей, никто бы не стал указывать на нее пальцем: смотрите, директриса танцует, ведь она видна и значительна за столом своего кабинета, а здесь она – никто, маленькая шмакодявка, – но на то и гордость, и понимание особого своего положения в обществе, чтобы прирасти к незримой привязи, чтобы рваться только мысленно, душой, телу же велев стоять на месте.
Меж тем указанная мать мерзавца в свитере электрик покинула танцплощадку. «Сыщик, ищи вора!» Но сыщик не искал вора, а мысленно кружился в вальсе-бостоне, усложненном танце, где главное – удачный партнер, он должен вести даму корректно, ненавязчиво склоняясь над ней на поворотах.
Скромный, если не сказать худосочный, торс Льва Толстого упирался бородой в кубический постамент. Бронзовея под лучами закатного солнца, памятник венчался прямоугольной клумбой с цветами львиный зев. Видимо, наша приверженность к тематизму толкнула садовника на взращивание львиного зева у бюста классика.
За Львом Толстым я обнаружила Алевтину.
– Раскалываюсь, – сообщила она. – Такой скотина, обозлился и удрал.
Родильный дом, к счастью, был неподалеку.
В ту пору мимо проходил Генька, сосед из Анькиного подъезда. Генька был в меня влюблен. И за возможность вернуться домой вместе готов был свести в роддом все население нашего городка.
Взяв Алевтину под руки, мы прошли через парк и оказались на проспекте Победы. Алевтина часто останавливалась. Обняв живот, который почему-то съехал чуть не к коленям, она корчилась и стонала на проспекте. Мы с Генькой переглядывались, нам было страшно.
В предбаннике приемной толпились пузатые женщины. Казалось, все вдруг вздумали рожать вместе с Алевтиной.
Домой мы возвращались тем же путем. Стемнело. Умолк духовой оркестр. У платной танцплощадки толпилась взмыленная молодежь, бродила милиция, пока никого не трогая.
– Зайдем, – предложил Генька браво, – вздрогнем напоследок.
Геньку осенью забирали в армию, и оттого он был настроен возвышенно (лето, липа цветет, танцы) и безнадежно («Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья!»).
Светлыми летними вечерами Генька выходил на балкон с аккордеоном. В его репертуаре на первом месте стояла песня, где были такие слова: «В жизни всему уделяется место, вместе с добром уживается зло, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло». И лихой припев: «Рулла-тырулла-тырулла-тырулла-эх, рулла-тырулла-тырулла-ла-ла».
Генька играл, а двор – пел. По окружной грохочут грузовики, орет мильтон в матюгальник, а Генька знай себе наигрывает. Такие были времена.
Теперь Геньке сорок. Все его невесты ушли с другими, и уже ясно, кому именно не повезло. Единственной женщиной, которую он отводил рожать, оказалась Алевтина.
Когда мы пересекали железнодорожное полотно, Генька взял меня за руку. Чтобы я не подвернула ногу на «платформах». Рука у него была горячая и потная. И весь он был красный, от затылка до лба.
Свернули на канал. В черной воде отражались разноцветные сигнальные знаки, медленно плыли пароходы, проносились «Ракеты». И везде все пели и плясали. Весь мир был плывущей танцплощадкой, а мы стояли на берегу. И молча завидовали.
Про Алевтину забыли. Жизнь Алевтины была далека и туманна, как противоположный берег канала.
– Мы приближаемся к смерти со скоростью десять километров в час. В детстве десять километров в час, в юности – двадцать километров в час, в старости – семьдесят. Дряхлеем, а на самом деле ускоряемся, – ни с того ни с сего начал Генька, но тут же смолк. Сунул руки в карманы, втянул голову в плечи. Он уже три раза признавался мне в любви, и, похоже, надвигался четвертый.
Чтобы предотвратить четвертый, я стала быстро рассказывать про директрису, школьную библиотеку и домры, но Генька слушал невнимательно. Шуршал сигаретами, чиркал спичками о коробок. Ничего у него не получалось, даже прикурить от первой спички.
Вернувшись из армии, он сделал мне предложение. Получив отказ, он приударил за моей подругой. Ездил с ней на юг и там сторожил палатку, где подруга уединялась с южным знакомым. В результате уединения она по приезде сделала аборт и быстро выскочила за бывшего уголовника. Он увез подругу в Набережные Челны, где его ждала «гражданская» жена. Подругу избили и вытолкали в шею. Она родила девочку. Потом вышла замуж за дельтапланериста, курчавого голубоглазого парня, грека по национальности. Грек мечтал родить с подругой пятерых детей, совершить на дельтаплане какой-то феерический полет, после чего он будет зачислен в космонавты. Узнав, что подруга беременна и собирается рожать, он ушел, забрав с собой весь имеющийся в доме тещи хрусталь. На тещу неизгладимое впечатление произвело то, что он завернул хрусталь в верблюжье одеяло.
На похоронах грека (тот вскоре разбился на дельтаплане) подруга познакомилась с первой его женой. Выяснилось, что из дома первой жены он тоже вынес хрусталь, только в ватном одеяле. Обе плакали. Похороны происходили в Ленинграде, на родине дельтапланериста, и беременная подруга взяла с собой Геньку, для поддержки.
– Порядочный Генька наш, но какой-то пресный, не влюбишься в него, – говорит подруга. – Нет, не герой моего романа.
Так она отвечает на мои намеки, мол, вышла бы ты за него замуж в конце-то концов!
Генькин аккордеон смолк. Как и весь тогдашний поющий и танцующий мир.
…И надо же, чтобы в тот день, когда мы встретились с Алевтиной на канале, рядом со мной опять был Генька. Он ходил со мной в библиотеку ДК «Родина», за книгами.
Алевтина, естественно, его не узнала, а меня узнала сразу, кинулась обниматься.
– Толян, поди ж сюда, покажись, какой вымахал жердина!
Жердина был прыщав и веснушчат. Хмурый, в Борьку, и добродушный, в Алевтину.
Генька отошел, чтобы не мешать.
Алевтина устроилась в НИИ – обслуживала множительную технику. Она усохла, кожа на лице заморщинилась, от прошлой красы остались разве что густые пепельные волосы, волнами лежащие в стрижке.
– Кого из наших встречаешь? – спросила Алевтина и, не дождавшись ответа, сообщила: – Директрису частенько встречаю. Вышла на пенсию. Внука пасет. Говорит, вот мы работали дак работали – и газеты к большой перемене подшиты, и фонды в порядке. Ой, ну ты, прям не узнать стало. Чё волосы не перекрасишь, все некогда?