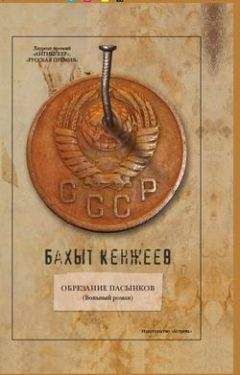Однажды, направившись в сторону от моря, я забрел в деревушку, не тронутую приморским курортным благообразием. Помню мучительно искривленные, переплетенные кусты самшита на обочинах, монотонное пение цикад, мучнистый вкус зеленого инжира на карликовых, придавленных к земле деревцах с неожиданно большими листьями (так вот они, фиговые листья, подумал я весело), помню собственную жажду и великое удивление, когда с окраины деревни до меня донеслись приглушенные звуки лиры. Они раздавались из увитой виноградом полуразвалившейся беседки в одном из дворов. Играли неумело, но старательно. Я подошел поближе, надеясь если не насладиться незнакомым эллоном, то по крайней мере попросить стакан воды или вина, и уже издали заметил, что я - не единственный слушатель. У забора стояла высокая девушка в соломенной шляпе.
Это была Таня.
- Что за встреча, - начал я развязно, но тут она обернулась и я прикусил язык, потому что по ее загорелому лицу текли самые настоящие слезы. - Мы здесь с компанией, - продолжил я на полтона ниже, - с Мариной, с моими новыми друзьями с факультета экзотерики. А ты с кем? С Некрасовым-Безугловым-Жуковкиным?
- Я одна, - сказал Таня. - Мы с тобой слишком давно не виделись, Татаринов.
- Мы виделись в лаборатории, - сказал я, - не моя вина, что ты ни о чем не хотела говорить, кроме науки.
- Во всяком случае, ни с кем из них я больше не встречаюсь. Мы и с Мариной, собственно, раздружились. Почему у тебя такой идиотски-восторженный вид?
- Невероятное же совпадение, - буркнул я довольно обескураженно.
- От кого ты впервые услышал о Новом Свете, Татаринов?
Я пожал плечами, порядком уже обгоревшими под крымским солнцем.
- Вот и я услыхала от того же самого человека. Если хочешь знать, мы должны были приехать сюда вместе. Тайком от родителей, - с непонятным ожесточением говорила она, - потому что родители очень любили Михаила Юрьевича, но меня бы за него не отдали.
- А он хотел? - тупо спросил я.
- Теперь это уже безразлично. Даже если он жив и здоров, мы никогда не увидимся. Он оставил мне только этот совершенно пустой Крым, который расписывал в течение полугода. Показывал карты с намеченными тропинками, хвастался своим гербарием. Знаешь, - она вдруг оживилась, - он ведь знал названия всех цветов и трав, и по-русски, и по-латыни. Теперь, наверное, рассказывает о нх кому-то еще.
- Позволь, - начал я, простодушно выдавая свою осведомленность, и в то же время с некоторой уязвленностью, - разве он и тебе говорил о своих планах?
- А как ты думаешь? Если человек влюблен - что, впрочем, не мешает ему часами трепаться по телефону с какими-то красотками по-французски, и вечно не бывать дома, и отдавать так называемой любимой женщине один-два вечера в неделю...
Лира стихла, и из беседки вышла, скорее даже вывалилась, чрезвычайно толстая старуха в полуцыганских лохмотьях. Взглянув на нас, она рассмеялась, как смеются только душевнобольные, и помахала в воздухе кисточкой винограда. Магия предыдущего мига рассеялась. Солнце показалось мне слишком ярким, черный виноград на заборе - слишком пыльным, воздух - слишком сухим, и Таня - обыкновенной обиженной девчонкой. Более того, я снова ощутил некоторое раздражение в адрес Михаила Юрьевича.
- Хорош, - сказал я. - И какая конспирация. Лично я ни о чем не догадывался.
- Ты и не должен был ни о чем догадываться, - отмахнулась Таня, - а хорош Михаил Юрьевич, или нет, судить не нам. Впрочем, он о тебе всегда был высокого мнения. Умная голова, говорил он, да дураку дана.
Не знаю, отчего меня при этих словах понесло. Я совершенно забыл про Марину. Я вспомнил жалкие букеты, которые приносил в дом академика Галушкина, вспомнил, как доцент Пешкин стал заниматься со мной и с Таней поодиночке - и меня охватил жуткий приступ ревности к исчезнувшему сопернику, пускай даже он никогда, в сущности, и не был моим соперником.
- Он тебя не любил, - сказал я. - Он вообще никого не любил. То есть, с виду любил всех, а на самом деле никого. Он умел только играть в любовь. И к экзотерике, и к алхимии, и к женщинам. Его все любили, это было. А он все это растоптал. Предал не только тебя, но и остальных, меня в том числе. На таких, как он, полагаться нельзя.
Слезы на запыленном Танином лице уже высохли, оставив несколько довольно заметных дорожек.
- Мальчишка ты, - вдруг сказала она почти презрительно, - что ты в этом понимаешь? Что ты знаешь о любви, о разлуке, о ненависти и ревности? Не больше, чем знала я, когда за мной ухаживал этот ничтожный Некрасов. Михаил Юрьевич настолько выше нас всех, что мы о нем не имеем права даже разговаривать.
- Ты влюблена, - сказал я, - и ослеплена. Усы, бородка, лира, французский, латынь, алхимия, запрещенные книжки. Хоть что-нибудь в жизни довел до конца твой доцент Пешкин? Сделал открытие, и сам его испугался. Полюбил - или говорил, что полюбил - и убежал черт знает куда. Играл на лире, как настоящий аэд, а сам сочинять боялся, мне Вероника Евгеньевна все про него рассказала.
- Зато с ним было волшебно, - сказала Таня, - а ты, Татаринов, как родился занудой, так занудой и помрешь, и сам никогда ничего не откроешь, и никогда ничего не сочинишь - даже не от страха, а просто по общей рассудительности. Михаил Юрьевич живой, а ты... ты уроженец Мертвого переулка. Ты во всем видишь только средство - и в алхимии, и в эллонах, и в самой жизни, и в любви, наверное. Потому ты и Мариной увлекся, что она красавица и была такой недоступной, хоть и набитая дура.
- Повторяешь уроки доцента Пешкина? - спросил я со всей доступной мне ядовитостью. - К твоему сведению, я не родился в Мертвом переулке, давно там не живу, да и нет такого переулка, он сто лет назад переименован в улицу Островского. Что же до сочинений и открытий - то Вероника Евгеньевна уже слышала мои первые эллоны, пригласила меня к себе в студию и посоветовала подать документы в Экзотерический институт.
- Поздравляю, - сказала Таня. - Марина, вероятно, очень за тебя рада. Она обожает знаменитостей, даже будущих.
- А если я действительно буду знаменит?
- В добрый час, - с неожиданной сухостью сказала Таня. - Мне-то что. Ты же не сможешь вернуть мне моего Михаила Юрьевича.
- Я мог бы его заменить тебе.
- Нет, - Таня, кажется, даже чуть отпрянула от меня, - нет, ты с ума сошел.
- С тобою я, видимо, вечно буду на вторых ролях. Ты знаешь, как я переживал, когда ты меня бросила ради этого министерского сынка?
- И не бросала я тебя, и друг - вовсе не вторая роль. Я правда хочу с тобой дружить, Татаринов. Может быть, в Москве я сумею прийти в себя. Говоришь, он всех нас предал? Меня - точно. Но ты все-таки плохой судья - ты ведь и сам только что был готов предать свою Марину. Мальчишка ты, - повторила она. - Давай не будем об этом больше.
Мы дошли до моря в молчании, и когда с обрыва, поросшего приземистыми длинноиглыми соснами, открылась самая лазурная и тихая из трех бухт Нового Света, пожали друг другу руки и повернули в разные стороны. Я уже опаздывал к ужину, однако провел, вероятно, еще не менее получаса, собирая по обочинам горной тропинки суховатые, пахучие листья, стараясь как можно бережнее отщипывать их от стеблей, чтобы не повредить растению, (которое может считать сорной травой кто угодно на свете, кроме аэда), и складывая собранное в завязанную узлом футболку - крымское солнце к вечеру, утратив свою молчаливую беспощадность, прекратило грозить моим облупившимся плечам.
"Поелику полынь весьма горька, - читал я вечером на дворе, при свете голой электрической лампы, висевшей на перекрученном шнуре, обширную цитату, раскопанную где-то Ксенофонтом и без комментариев приведенную в виде отдельной главки в "Письмах юному аэду", - и притом в себе содержит достаточное количество масла, соли и особливой влаги, то с древних времен всегда почиталась действительным лекарством. Под видом вычисленных составов либо в порошке с сахаром, либо вместо чаю внутрь употребляемая, согревая желудок и внутренности и укрепляя их, возбуждает охоту на еду, помогает варению пищи, в желудке содержимой, и, проницая даже до самых тончайших кровеносных сосудцов, разводит соки и влаги и самую кровь чистит. Сок из свежей полыни с небольшим количеством растертой гвоздики, выжатый и по прошествии лихорадочных припадков, по полуложке с вином внутрь данный, удивительное действие в одержимых оными производит. Полынь так горька, что когда коровы и овцы ею пасутся, то от сей травы у них горькое молоко отделяется. Родильницы и кормилицы, грудью детей кормящие, должны от внутреннего пользования полынных составов воздерживаться, ибо горькое молоко их питомцам может быть вредно. Аэды греческие употребляют полынь, воды морской кипящей на свежие или сушеные листься наливая, для брожения творческих соков и укрепления духа перед тем, как за сочинение сладкозвучных своих еллонов приниматься. Оная вода екзотерическая получает приятный полынный запах, вкус прегорький, особливо ежели смешивать ее с листьями мелко толчеными в равных долях, чего вкусу обыкновенному вытерпеть едва ли возможно. Некоторые люди от природы вовсе не могут терпеть полынных вещей; а иные от употребления оных претерпевают боль в голове и другие худые припадки."