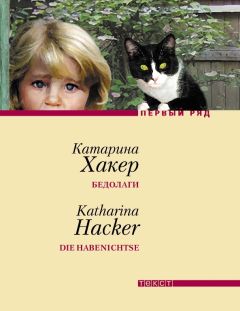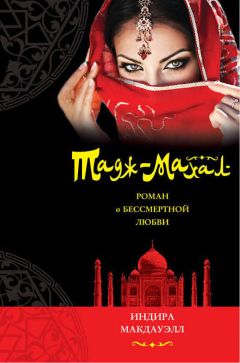Толкнула ногой дверь и аккуратно опустила Полли на пол в гостиной. Правда, кошке это явно не понравилось. Может, оттого, что дверь тут же закрылась и новый дом оглушил ее незнакомыми звуками и запахами. Может, она — если б могла объясниться жестами — рада бы вернуться к девочке, которая рыдает, или блюет на той стороне, или бьется в запертую дверь, боясь то ли наказания, то ли темноты.
Раздался телефонный звонок, и Изабель обрадовалась звонку и голосу Петера, предложившего новый заказ: обложка для аудиокниги, недорого и оригинально. «Короче, старая песенка», — заключил Петер. Он занят переездом, Андраш — поездкой в Будапешт. «Ну вот, пока Андраш не вернется, твоя очередь работать, — заявил он, — давай-ка, помогай, там Ласло уговаривает его остаться, но ничего из этого не выйдет». Усталый голос Петера звучал и приветливо, и сухо; он вообще не спросил, как у нее дела.
Полли, мяуча, отправилась за Изабель наверх, в кухню, обнюхала мисочку с молоком, поставленную на полу специально для нее, внимательно проследила, как в другой мисочке Изабель мелко нарезает для нее мясо. Ей понравилось кормить кошку, и, вспомнив о Саре, которая сейчас сидит там, в саду, на корточках, и обливается слезами, но все равно является хозяйкой кошки, Изабель сочла ее относительно счастливым ребенком. Насытившись, Полли отправилась на экскурсию по дому. Как настоящий сыщик, она сразу полезла наверх для проверки дальних помещений — спальни и кабинета Якоба, где тот, впрочем, никогда не бывал. Одержим работой в конторе и не терпит расспросов. Однако Изабель тоже ему не рассказывала, чем заполняет свои дни. «Обоюдное молчание, — так думала Изабель, — все равно что предоплата, вопрос только — за какую покупку».
Кошка осталась наверху, а Изабель спустилась на первый этаж, открыла окно. Уже смеркалось, небо закрывали плотные облака, порывами налетал ветер. По улице шел толстый человек в огромном тюрбане, двое детей в школьной форме степенно, как пожилые дамы, следовали за ним. В любую минуту на улице мог появиться Якоб, заметить Изабель, помахать рукой. И вдруг на подоконник, напугав ее, вспрыгнула Полли. Изабель схватила кошку обеими руками, собираясь унести подальше от окна, но та сопротивлялась, пыталась вырваться из рук. Изабель ее отпустила. Полли, кажется, удивилась, как-то странно присела, — может, она стара для прыжков? А потом выпрямилась и молнией умчалась к воротам, скрывшись где-то за припаркованной машиной.
В кухне стояли три бутылки красного вина, одна из них початая. Якоб принес суши, Элистер явился на полчаса позже. Ели мало, больше всех пила Изабель. Элистер взял ее на руки, закружил:
— Якоб, какая у тебя удобная жена!
А ее тошнило, но недолго. Якоб выпил за ее здоровье, она тоже быстро осушила бокал, Элистер немедленно его наполнил. И тут оба встали, подошли к ней — прямые, стройные, уверенные. Якоб обернулся к Элистеру, Изабель заметила, как они переглядываются, почувствовала их руки на спине, рука Якоба гладит по волосам, по лбу, скользит по лицу, в шутку прикрывая ей глаза, другая рука ощупывает попку, суется между ягодицами, насколько позволяют трусики, и как будет приятно, когда эта рука двинется выше, найдет резиночку и повозится у «молнии», это точно Элистер, и рот у нее открыт, и голова не кружится, сознание ясное, хотя чей-то большой палец пролез между губами, и самой хочется закрыть глаза, и кто-то дышит в ухо, дует в ухо, это точно Якоб, стоит только открыть глаза, как все замрут, но рано, рано, еще минутку. Изабель затаила дыхание, чей-то язык лижет ее ухо, это Якоб, а раз это Якоб, то, значит, это Элистер встал на колени и тычется головой между ляжками, что-то она слышит, чувствует какое-то движение — видно, рука Якоба водит по голове Элистера, ага, наконец она увидит их обоих голыми, скорее бы, ей не терпится. Но никто не тронул ее грудь, и язык уже не лезет в ухо, чьи-то пальцы на затылке, но это щекотно — и больше ничего, кто-то все испортил, всех предал. Только поверить не хочется, и она плотно прикрывает веки, потягивается, предлагая желающим свое тело, но возбуждение спадает, и рука рефлекторно натягивает трусики, хотя там и другая рука — это Элистер, и ее как током ударяет его гнев, ногти впиваются в его запястье, а он пихает ее руку в трусики, и вот она — срамная влажность, и, забыв про хватку, про гнев, она щупает мягкую кожу, тонкую и старую, будто это не она сама, а старуха, старухино тело, возбуждающее не желание, а сочувствие. Кто-то потянул ее руку вверх, это Якоб, он-то все и испортил. Добился позора, и Элистер как чужой, и она против этого бессильна. Якоб взял ее на руки, отнес наверх, сама она и вправду идти не могла, уложил в постель, прикрыл одеялом, не раздевая. Рука у нее все там же, между ног, а глаза закрыты. Слышала шаги, тихие переговоры, оба еще внизу — может, целуются? Изабель лежала на кровати, понимая, что унижение стало отныне частью ее тела.
Потом ее вырвало. «Немножко соберись, и ты всегда добежишь до ванной» — так ее наставляла мама. Якоб об этом не узнает. Но не потому, что крепко спит, а потому, что лег спать внизу, в ее кабинете. Утром, правда, он поднялся в спальню, на коленях встал у кровати, погладил ее — вроде как спящую, она же притворилась спящей, чтобы он подумал: ничего не случилось. И тем самым затянула петлю на собственной шее. Надо было высунуть из-под одеяла руку, надо было привлечь его к себе, затащить в постель, любовь немедленно — и вот оно, примирение.
Он ушел, и Изабель, лежа в кровати, прислушивалась к шуму дождя. Даже сквозь закрытые окна холод проникал в дом. Правда, около одиннадцати из-за туч вышло солнце. Изабель вынесла на помойку две пустые бутылки и одну початую, было по — прежнему холодно. У соседнего дома остановилась машина, но Изабель заметила это только тогда, когда хлопнула дверца, когда к дому потопал неуклюжий дядька, тупо глядя на дверь, когда белокурая женщина вышла из машины и что-то прокричала хрипловатым голосом. Эта женщина в зеленых спортивных брюках и розовой водолазке была, наверное, когда-то хороша собой; по возрасту она не старше Изабель.
— Отчего эта дурища не открывает? — рыкнул дядька.
— Шел бы ты в задницу, — последовал ответ.
Улица, промытая дождем, сверкала. Изабель не пошла в душ, не переоделась со вчерашнего дня. Элистер ушел когда-то ночью, ясно, что он, как и Якоб, давно уже в конторе и занят чем-то — чем-то далеко не новым, но что на свете ново? И ничего в этом хорошего нет, разве она такого себе желала? И Изабель внезапно ощутила острую тоску по Берлину. Унижение, испытанное и прочувствованное ею в последние дни, не ушло. Она старалась об этом не думать, но волей-неволей спрашивала себя, когда же вернулись родители Сары, вчера вечером или только сейчас?
Улицы тут не темнее берлинских, но в окнах почти не видно света, и таблички на санскрите вселяют в нее неуверенность. В любом доме, наверное, беженцы или женщины, превращенные в рабынь. Мужчины пристально ее разглядывали, подростки пытались вступить в разговор, заманивая в рестораны — бенгальские или индийские, и нет им числа. Это не первая ее прогулка в Ист-Энд, но первая прогулка в одиночку. Заглянула в одну, в другую лавчонку (широкие вышитые балахоны, куртки с капюшоном, сапоги убийственных цветов), купила в индийском супермаркете деревянную ступку, постояла у витрины книжного, поглазела на кассеты и диски, спрашивая себя, на чем, собственно, держится слава этого района с его полуразрушенными, полудеревенскими домами. Неприветливо и безотрадно. Исполинского роста мужчина увязался за нею, пришлось искать убежища в какой-то забегаловке на Брик-Лейн; у зеркальной стены напротив прилавка она съела бублик и выпила два стакана горячего крепкого чаю, а исполин следил за ней через окно таким жадным взглядом, что впору было пригласить его внутрь и тоже предложить чаю. Хозяйка, как угорелая носившаяся между кассой, колбасками и огромным куском мяса на вертеле, краем глаза наблюдала за ней.
— Ничего, он сейчас уйдет, не волнуйся. Все когда-нибудь кончается.
Изабель кивнула, не зная, правильно ли ее поняла.
— Это ж не твой? — уточнила хозяйка. — Не твой дружок, я хочу сказать. — Отрезала внушительный кусок мяса, разделила на порции. — Вот так и надо, кусочками, а не целиком. Муж, любовник, друг, приятель. Так оно лучше для всех. А у тебя такой вид, будто миску из-под носа увели.
Изабель нерешительно подошла ближе к прилавку:
— Мы тут всего два месяца.
— То-то я и слышу. Из Германии, так?
— Из Берлина.
— Знаешь, у меня дочка твоего возраста, тоже красивая, и уж точно хорошая девочка. И тоже вот такая недотрога, мол, отойдите все! Только из-за войны она всё куда-то ходила, по полдня пропадала, но это ведь дело принципа, правда? Ты про себя подумай, мам, — так она говорила: первый тебя бил, второй бросил, а ты тут годами надрываешься. Подумай, мам. Я-то, по правде, обоих любила, хотя толку от них чуть. За одним бегом побежала, рыдаю, и что? И я ей говорю: зато ты у меня есть. Хочешь, чтоб у тебя было по-другому? Ну и отлично. А в итоге что вышло? Да ничего.