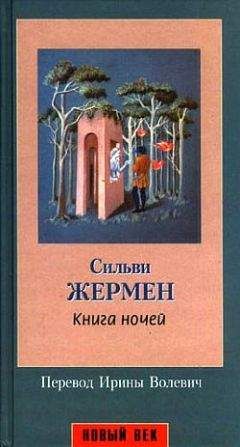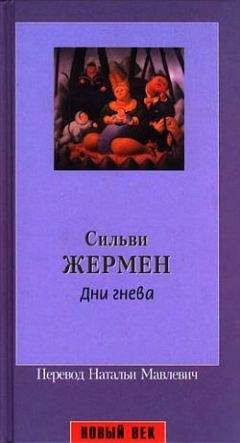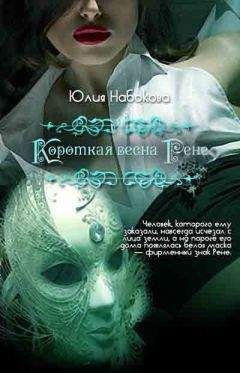Итак, оно вернулось — время зла, — и вновь, и опять никто сначала особенно не всполошился, не поднял тревогу. Только на сей раз враг не мешкал и мгновенно утвердился на завоеванной земле. Нужно сказать, что еще не кончилась весна, и все произошло так быстро, что она даже не успела потерять свое очарование, несмотря на первые разрушения и первых мертвецов, кое-где уже омрачивших веселый пейзаж.
Черноземье, расположенное на холмах, над Мезой, поначалу избегло тягот войны. Укрытое густыми лесами, селение просто оказалось отрезанным от территории страны и как бы пропало из виду, словно дикий зверь, безмолвно затаившийся в своей норе. Впрочем, и вся страна тоже была рассечена на зоны, уподобившись архипелагу из трех островов, трех Франций, разительно несхожих меж собой. Одна зона называлась свободной, вторую объявили оккупированной, третья, приграничная, и вовсе находилась под запретом. Кроме того, имелось и много других зон: люди покидали страну морем, унося в карманах горсть родной земли, чтобы обосноваться вместе с нею на чужбине, кто в Англии, кто в Африке. А город — самый главный, огромный город с парками и садами, где Виктор-Фландрен встретил свою последнюю и самую великую любовь, — претерпевал позор и горечь вражеского плена.
«Там». Ни «здесь», ни «сегодня» больше не существовало. Осталось одно лишь «там» — неведомое, недостижимое, и еще «завтра», грозящее страхом и бедой. Явилась новая, наспех созданная картография, не перестававшая удивлять людей: городишко, доселе известный лишь больным печенью, нежданно выдвинулся на первый план в нынешней сумасшедшей географии.[7]
Весь район Черноземья, угодивший в запретную зону, казалось, сменил широту. Теперь он стоял на широте войны, уродливо преобразившей этот край. Земля засохла, словно изошла кровью; ураган, налетевший с той стороны границы, смел все подчистую — поля, стада, людей. Целые деревни исчезали с лица земли по прихоти жуткого кадастра, со дня на день подкрепляемого огнем пулеметов и взрывами бомб. Повсюду, куда ни глянь, возникли кошмарные творения военной архитектуры — бункеры, авиабазы, лагеря, казармы, железнодорожные пути. Бетонный пейзаж, ощетинившийся колючей проволокой. Жилища и поля внезапно сменяли владельцев и назначение. Враг по-хозяйски водворялся в лучших домах и беспощадно изгонял местное население, заменяя его тысячами бесплатных рабов — пленных, доставляемых сюда со всех оккупированных восточных территорий.
В первое время оккупанты, в упоении легкой победы, вели себя более или менее корректно, пытаясь даже приобщить к своему триумфу этот разрозненный завоеванный, поверженный в страх народ. Но продолжалось это недолго — преимущества и права, неоспоримые в глазах победителей, расценивались побежденными как обыкновенный грабеж и насилие, с которыми следовало покончить как можно скорее.
Это сопротивление заставило врага открыто выказать свою ненависть. Улицы городов и сел обагрились красными плакатами, вестниками ужаса и смерти.
Черноземье практически не имело улиц, и его единственным общественным зданием была старая мыльня, поэтому оккупанты некоторое время не обращали внимания на деревню, так что ее обитатели почти не чувствовали близости врага, разве лишь мельком видели в щелочку ставней большие черные грузовики, мчавшиеся туда-сюда по дороге. Люди, однако, еще не забыли прошлое нашествие и чувствовали, что смерть только взяла отсрочку, но бродит где-то рядом, готовая наброситься и поразить их в любой миг. Ее присутствие ощущалось повсюду, только они не знали, где и когда появится она в открытую. А пока, в ожидании ее удара, они затаились и молчали.
И она пришла — эта смерть, которую они ждали с тоскливым страхом, — пришла внезапно и странно, поразив, для начала, не живых, а мертвых. Ибо на широте войны возможен любой абсурд, даже трагикомический.
Однажды ночью, перед самым рассветом, прямо на кладбище Монлеруа упал подбитый самолет. На сей раз церковь лишилась не только своего колокола, но и самой колокольни. А кладбище оказалось на три четверти разрушенным. Когда рассвело, жители Монлеруа увидели изуродованные тела своих покойников, над которыми до того основательно потрудились черви. Эти тела, без лиц, без признаков пола, вышвырнуло взрывом из могил и вперемешку раскидало по крышам ближайших домов и ветвям деревьев, только-только начавших ронять листву.
Вот таким оказался для обитателей Монлеруа первый сбор осеннего урожая на широте войны; им пришлось шестами сбрасывать трупы с крыш и ветвей, чтобы закопать их без разбора в общей могиле, вырытой под бдительным оком врага, которого интересовало в этой мешанине останков только одно — останки погибшего самолета.
Золотая Ночь-Волчья Пасть ощутил невыносимую боль при виде оскверненного кладбища, представлявшего теперь свалку костей. У него было такое чувство, словно это ему самому вспороли живот и вывернули наизнанку, опоганив воспоминания об усопших, его любовь к ним.
Мелани, Бланш, Голубая Кровь, его дочь Марго — один звук этих имен причинял ему теперь страдание, останавливал сердце. Его прошлое, все его прошлое, валялось в общей яме, грубо вырванное из истории, изгнанное из памяти.
На сей раз сомневаться не приходилось: беда и смерть подошли вплотную и нанесли свой первый удар, нанесли коварно и нежданно, в спину, со стороны прошлого. А теперь они должны были взяться за живых — обойти их с флангов и, в конце концов, безжалостно поразить прямо в лицо.
Вот так Черноземье, стоявшее на широте войны, двинулось в сторону широты смерти.
Бенуа-Кентену послышался тихий всхлип по ту сторону пламени, когда загоревшийся белый слон рухнул набок и развалился на куски. Он неотрывно, до слез, смотрел в худенькое личико Альмы, искаженное метавшимися отблесками пожарища; еще никогда ее глаза не казались ему такими огромными. Он даже не чувствовал отцовскую руку, больно стиснувшую ему плечо, — Два-Брата прижал сына к себе так судорожно, словно хотел втиснуть его в собственное тело, укрыть там.
Огонь пылал долго, ведь у него было вдоволь пищи — груды мебели, утвари, белья. Казалось, буйное пламя окрасило в розовое даже снег вокруг дома, заставляя его вздрагивать и плясать вместе с собой. Людям, стоявшим у пожарища, было одновременно и странно холодно и невыносимо жарко.
Младшие девочки, Ивонна и Сюзанна, спрятали головенки в юбку матери и вцепились ей в руки, царапая кожу. Они не хотели, не могли видеть этот кошмар. Рут застыла на месте, беззвучно плача. На ее глазах в черном столбе дыма вздымались и тут же съеживались и исчезали лица и руки — это горели ее альбомы. Слезы и языки пламени… ее глаза видели даже сквозь них. А черный дым все стлался и стлался по ветру, точно длинная борода.
Одна только Матильда держалась поодаль от женщин, сложив руки на груди. Ее седые волосы ярко белели в свете пожара.
Золотая Ночь-Волчья Пасть стоял в окружении своих сыновей, Сильвестра, Самюэля и Батиста. Он еле заметно пошатывался, как сомнамбула на грани сна и пробуждения. Его веки все еще чувствовали касание пальцев Рут, прикрывших ему глаза нынче утром. «Ну-ка, угадай, что я сегодня надела?!»— спросила она. Когда она отняла руки, он повернулся и увидел зеленое платье, платье их первой ночи. «Помнишь?»— «Конечно, помню. Оно тебе идет так же, как тогда». И верно, зеленое платье по-прежнему было к лицу Рут, как будто ни она, ни платье ни чуточки не изменились за прошедшие десять лет. И все же в его складках и карманах ему чудилась затаившаяся опасная тень, что навела на него страх тем утром, — зеленая тень, которая сейчас багровела в огне пожара и куда обе девочки спрятали испуганные лица. Тень поражения.
Даже Жана-Франсуа-Железного Штыря выволокли из его закутка и поставили перед огнем; поддерживаемый с двух сторон Тадэ и Никезом, он пытался определить, где горит, протягивая вперед трясущиеся руки. В ушах у него все еще стоял пронзительный писк двух его горлиц, которых солдаты прямо в клетке швырнули в костер.
Когда пламя наконец улеглось, офицер, который командовал расправой, сидя, нога на ногу, на единственном, специально оставленном для него, стуле, встал и выкрикнул новый приказ. Солдаты произвели второй отбор, разделив на сей раз не женщин и мужчин, а тех, кого должны были увезти, и всех прочих. Затем они пересортировали уезжавших. Рут, с ее пятью детьми, поставили в одну сторону, а молодых мужчин, способных работать на рейх, в другую; сюда попали Батист, Тадэ и Никез. Горбуна, совсем уж никчемного, оттолкнули от них. Однако оккупанты решили и его заставить потрудиться, пусть хоть единожды, во славу рейха. Офицер распорядился дать мальчику револьвер и приказал ему застрелить старого Жана-Франсуа, виновного в сокрытии горлиц, которые вполне могли полететь против ветра славной, триумфальной истории, за которую он, немецкий офицер, боролся всеми силами души.